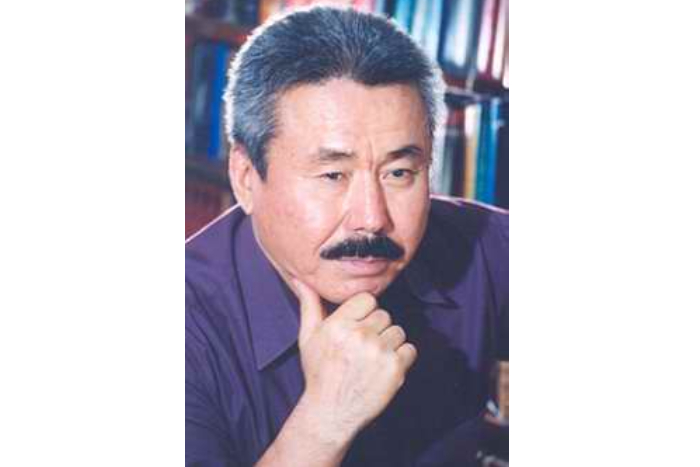- Геополитика
- 20 Декабря, 2023
АЙЮБ, или Homo Kazakus
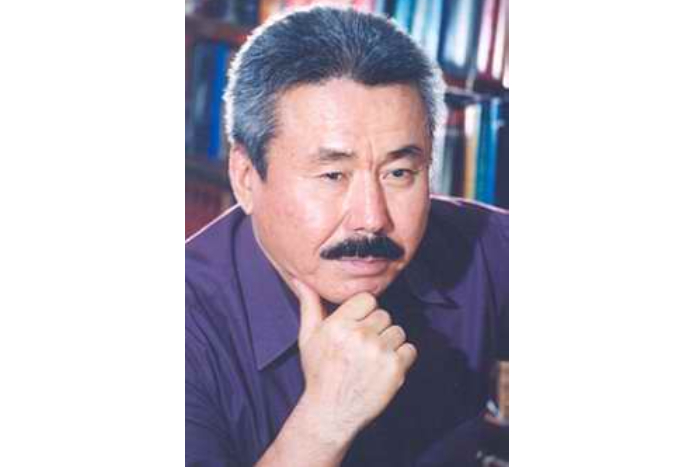
Сейдахмет КУТТЫКАДАМ,
писатель-публицист
(Заколдованный век)
(Рассказ в рассказах)
Жизненные бури
ЧАСТЬ II
Глава 14. Репрессии
Здесь прервем описание приключений Балмухана и кратко порассуждаем о советской власти. Рассматривая ее деяния, поражаешься тому, как в них невероятным образом были перемешаны добро и зло.
Главное противоречие было в том, что, создавая возможности для развития человека и его профессионального роста, она в интересах идеологии абсолютно подавляла его и вынуждала к покорности. А непокорных, среди которых, как правило, преобладали люди образованные, умелые и с чувством собственного достоинства, ломала, а иных даже уничтожала. Расскажем о том, как это проводилось на пике.
1 декабря 1934 года в Ленинграде произошло убийство друга-соперника Сталина Сергея Кирова, до сих пор покрытое завесой тайны. И в стране стал раскручиваться маховик жесточайших репрессий власти против собственного народа. К середине 1935 года эта волна докатилась до Казахстана. Сотни тысяч людей (в их числе и остатки национальной элиты) были расстреляны. Но дело заключалось не только в физическом истреблении, но и в том, что в республике и во всей огромной стране, занимавшей территорию, равную одной шестой части земной суши, воцарился вселенский страх.
Система вольно и невольно стимулировала доносительство, и, чтобы выжить, многие люди писали друг на друга доносы. Особенно сильное распространение это получило именно в тех регионах СССР, которые считались непокорными и где был искусственно устроен коммунистическим режимом голодомор: на Украине, в Поволжье и Казахстане.
Оставшиеся в живых люди, у которых проснулся животный инстинкт, хотели жить дальше любой ценой, даже подставляя других безжалостному Молоху, но это не спасало их, а, напротив, еще более подвергало опасности их жизни, так как другие поступали точно так же.
Соседи писали на соседей, друзья – на друзей и даже родственники – на родственников, не говоря уже о недругах и врагах, которые таким холуйским образом сводили старые счеты. Некоторые ученики постыдным образом писали на своих учителей, чтобы занять их места, а соперники в любви – чтобы жениться на своих отвернувшихся избранницах. Случилось так, что эти регионы, перенесшие голодомор, и не пришедшие в себя, подверглись еще наиболее ужасным репрессиям и страху.
Советская система, чтобы осуществлять тотальный контроль за обществом, принуждала всех следить за всеми. Последствием всего этого стало то, что социальные связи были нарушены, традиции взаимной поддержки стали исчезать, лицемерие стало преобладать, никто никому не верил, все подозревали друг друга, и каждый замкнулся в себе.
Доносительство вошло в привычку части общества и стало использоваться им как форма душевных истязаний, в основном, талантливых людей.
Так началось подтачивание моральных устоев общества, которое имело далеко идущие последствия и через шестьдесят с лишним лет привело к саморазрушению величайшей империи всех времен и народов – СССР.
Эти репрессии, конечно, захватили и Туркестан. Маленькая местная тюрьма была забита, не могла вместить большое число арестованных по всему району, и превратилась в пересыльную. Арестованных держали там два-три дня, а затем в специальных вагонах с решетками отправляли в областной центр – Шымкент.
О методах допросов опричников-энкавэдэшников распространялись чудовищные слухи: людей жестоко избивали, втыкали иголки под ногти, защемляли половые органы, а самым страшным наказанием было помещение в ямы, где их со всех сторон окружали острые, как копья, железные прутья, и они не могли ни сесть, ни прислониться к стенке. Поэтому заключенные или сходили с ума, или признавались во всем, что им приписывали, и подписывали любые ложные бумаги, подготовленные следователями. Как правило, их обвиняли в принадлежности к Алаш-Орде, подготовке заговора против советской власти, саботаже и шпионаже в пользу одного или даже нескольких потенциальных врагов СССР.
Каждой республике из Москвы был «назначен» главный, «любимый» враг – для Казахстана им стала Япония. Видимо, других врагов: Германию, Францию, Великобританию, Америку, Италию, Иран, Турцию и т. д. – «раздали» другим союзным республикам, порой по принципу географической близости или общей границы. Казахстан граничил только с Китаем, но советские вожди заигрывали с Гоминьданом, и поэтому по остаточному принципу казахам досталась Япония.
Казахи, за единичными исключениями, не только никогда не бывали в Стране восходящего солнца, но и не видели живого японца. Один из этих осужденных, чудом оставшийся в живых после продолжительной «командировки» в концлагеря, с невероятным «коктейлем» смешанных чувств: горечи и боли, сарказма и лукавства – спрашивал у молодых: «Ребята, вы очень грамотные и много знаете, объясните, пожалуйста, мне, невежественному японскому шпиону, где находится эта самая Япония?!».
Болезнь доносительства в Туркестане имела свои особенности. Здесь все знали друг друга, и поэтому не составляло особого труда вычислить, кто на кого писал и по какой причине. И когда ночью забрали уважаемого Есима, его родные не сомневались, что это сделал его давний соперник Балпак. Когда через полмесяца стало известно, что Есима расстреляли, двое его старших сыновей с ружьями ворвались в дом Балпака и, выгнав из него женщин и детей, убили хозяина, его брата и троих взрослых сыновей. После этого они забаррикадировались. Милиция, окружившая их дом, получила приказ от своего начальства уничтожить братьев, не беря их в плен, разумеется, для устрашения населения. Три часа братья отстреливались, и тогда милиционеры подожгли дом.
Этот случай не только не устрашил туркестанцев, но, напротив, озлобил, разбудил их дух и достоинство: поток подметных писем резко сократился. Только жестокими пытками тех, кто оказался в их руках, опричникам изредка удавалось получить донос на кого-либо.
Глава 15. Завет отца
Когда воровская среда возносила Балмухана в Ташкенте, у него на родине с отцом случилась беда. Старик Таубай периодически ездил в те места на берегу Сырдарьи, где провел многие годы, там он охотился на фазанов, зайцев и корсаков, покупал скот на мясо подешевле. Но все это было поводом, его тянули туда не забава и выгода, а запах края и воспоминания, связанные с ним.
В одной из поездок ранней весной он поскользнулся и упал в глубокую яму с водой. Было сыро, дул холодный северный ветер, и Таубая сильно продуло. Он не придал значения небольшой лихорадке, охватившей его. А когда вернулся домой, то тяжело заболел и слег. Сарсенгуль кормила его горячим бульоном, отпаивала травами, но ничего не помогало.
Временами Таубай бредил и звал Балмухана. Все знали, что старик тоскует по своему младшему сыну, которого он любил больше других. И когда вся семья собралась у постели больного, он прошептал: «Верните мне моего Балмухана!». Воля умирающего отца священна, но как ее выполнить? Ведь Балмухан убил человека, и по слухам, дошедшим до них, они знали, чем занимается он в Ташкенте. Все взоры уперлись в Шамши: только он мог что-то придумать.
Прошло шесть лет после бегства из родного города Балмухана, советская власть окончательно утвердилась, и люди приспособились к новому режиму. Как уже говорилось, репрессии, начавшиеся в СССР, коснулись и Туркестана. Отец убитого Балмуханом парня был объявлен врагом народа. Узнав об этом, Шамши решил пойти к начальнику районной милиции Сарымсакову. Назипа была в курсе всех этих разговоров, связанных с Балмуханом, поэтому она вручила Шамши отрез переливающегося всеми красками голубого бархата и изящные золотые серьги в качестве подарка служителю права.
Придя к начальнику милиции, Шамши начал разговор с приятного. «Я слышал, что ваш сын хочет жениться на известной красавице – дочери славного Момбека, поздравляю вас! Услышав об этом, моя сноха передала вам, – сказал он, разворачивая сверток, – этот отрез и серьги, которые будут ей явно к лицу».
Милиционер, увидев отрез и особенно серьги, не мог оторвать от них глаз. Да перед такими, очень редкими в нынешние времена свадебными подарками никакие невесты и сваты не устоят.
– Спасибо тебе, но что у тебя за просьба ко мне? – настороженно спросил милиционер, уверенный, что за такими подарками стоит весьма серьезная просьба.
– По поводу давнего и, по моему мнению, простого дела. Шесть лет назад сын врага народа оскорбил моего брата, Балмухана, а мой брат – человек простой, но гордый, мы ведь из бедных. Так вот, он толкнул своего обидчика, тот упал, ударился головой о камень и неожиданно умер. Сейчас мой брат скрывается в Ташкенте, мы хотели бы, чтобы он вернулся.
Служитель правопорядка задумался и сказал Шамши:
– Зайди через две недели.
– Хорошо, – ответил тот и положил сверток на стол. Милиционер протестующе стал отмахиваться, но Шамши сказал:
– Какой бы ответ вы ни дали, примите это как подарок от вашего младшего брата. Я рад, что познакомился с таким славным человеком, как вы.
Сарымсаков помялся, но у него рука не поднялась отвергнуть эти чудесные вещи. Шамши ушел, и Сарымсаков впал в раздумье: как решить эту задачу? Он начал с того, что порылся в архиве районной милиции и с трудом нашел данные об убийстве Балмуханом человека. Дело до суда не дошло, так как Балмухан скрылся. Поэтому он тут же изъял эти сведения из архива, а в них был такой беспорядок, что никто не смог бы обнаружить пропажу. После этого он отправил телеграмму в уголовный отдел областного управления милиции с просьбой дать сведения о том, в каких преступлениях был замешан Балмухан и где он сейчас находится. Оттуда ответили, что по их данным, Балмухан является главарем бандитов в Ташкенте, но не замечен в правонарушениях в Казахстане.
Сарымсаков позвонил по телефону своему областному начальнику и в общих чертах рассказал ему суть дела, чтобы узнать его позицию. Тот ответил: «Ты понимаешь, узбекские бандиты покоя не дают нам. Совершив преступления в нашей области, они скрываются в Ташкенте, а местные органы их не выдают нам. Поэтому решай сам: если этот Балмухан будет вести себя смирно и не станет нарушать порядок на территории нашей республики, то можешь вернуть его. Но отвечать будешь за него сам». За этой рекомендацией скрывалось желание ответно досадить узбекским коллегам. А Сарымсаков был рад тому, что его начальник не только развязывает ему руки, но даже подталкивает его к возврату Балмухана.
Через две недели Шамши вновь предстал перед начальником милиции. Тот сказал: «Пусть твой брат возвращается, но если он украдет хоть цыпленка или даст щелчок по носу какому-нибудь подростку, то я отправлю его до самой смерти в края, где летящие птицы от холода камнем падают на землю, а собаки запряжены в сани». Шамши поклялся всеми своими предками до седьмого колена, что брат его будет вести себя смирнее овечки.
Глава 16. Возвращение
Через два дня Торебек и Шамши выехали в Ташкент. Шамши был в пестром узбекском халате и среднеазиатской тюбетейке, в Ташкенте он представлялся узбеком из Туркестана и везде расспрашивал, где можно найти Балмухана. Все отвечали вежливо, но заявляли, что никогда не слышали о таком.
Так безрезультатно прошло семь дней. На восьмой день люди Балмухана сами нашли их. Ему донесли, что какие-то два человека интересуются им, и он дал команду доставить их к нему. Вечером, в сумерки, пятеро молодцов ворвались на постоялый двор, где остановились Торебек и Шамши. Братья вполне могли справиться с непрошеными гостями, но Шамши остановил Торебека, уже сбившего с ног двоих, крикнув ему: «Не сопротивляйся!». Торебек недоуменно посмотрел на брата и опустил руки. Их тут же связали, посадили в повозку и повезли неизвестно куда с завязанными глазами.
Примерно часа через полтора, судя по мычанию коров, их привезли в какой-то поселок, ввели во двор, затем в дом, здесь развязали глаза и втолкнули в большую комнату. Там сидели Балмухан, Фархат, Хаким и еще двое здоровенных охранников. И тут, к изумлению бандитов, их важный атаман резво соскочил со своего места и как мальчишка бросился к арестованным, стал им развязывать руки и обнимать их. Но один из них, угрюмый бугай, вместо того чтобы раскрыть свои объятия, вдруг взял за шиворот их атамана и потащил его к выходу.
Бандиты схватились за оружие, но Балмухан, находясь даже в таком смешном положении, грозно им скомандовал: «Не трогать их». Те в растерянности не знали, что и делать. Бугай легко поднял атамана, усадил в повозку, сел сам, а рядом с ним – Шамши, и дал команду извозчику ехать в сторону Шымкента.
После отъезда двух сыновей в поисках третьего Таубай совсем перестал есть. Сарсенгуль силой пыталась его кормить нежной ягнятиной, разными бульонами, сладкими фруктами... Но он все выплевывал. Его тело пожелтело и сжалось до размеров подростка. Лицо представляло собой сморщенную маску. Видя его страдания, Сарсенгуль день и ночь плакала, но ничего не могла поделать и каждый день только молила Тенгри, чтобы Торебек и Шамши быстрее привезли Балмухана. А их все не было.
Когда, наконец, три брата приехали в дом Айбергена, с которым жили отец с матерью (родители по традиции должны были жить с младшим сыном, но, увы, он был в бегах), мать в слезах встретила их и на вопрос «как отец?» ответила, кивнув в сторону Балмухана: «Ждет этого дурака!».
Таубай, увидев своего младшего сына, благостно улыбнулся, распрямился, лицо его разгладилось, и его душа тут же покинула измученное тело. Все заплакали, а рыдающий Балмухан встал на колени и стал целовать ноги покойного.
Вся эта история отразилась на Балмухане: он стал смиреннее.
Но Шамши все-таки поселил его у себя, чтобы первое время приглядывать за своим непредсказуемым братом, так как при появлении Балмухана в родном городе многие его жители пришли в волнение. Обыватели боялись, что он здесь займется своим привычным разбоем, а все отъявленные хулиганы искали Балмухана, чтобы выразить ему свое почтение. Это сильно встревожило начальника милиции, и он велел срочно доставить ему Балмухана. Шамши его доставил.
Сарымсаков два часа наедине говорил с ним и после этого успокоился. Придя домой, он сказал жене: «Ты только никому не говори: я удивляюсь, как такой простофиля мог быть главарем огромной и опасной банды, да еще в Ташкенте!».
После столь неожиданного отъезда Балмухана Хаким тоже срочно покинул Ташкент. Он поселился в небольшом селении под Туркестаном, денег у него было немало, но он ими не сорил и вел тихий и скромный образ жизни. Женился на послушной и хорошенькой девушке с сорока косичками, вступил в партию и стал председателем колхоза, причем очень успешным.
Как сложилась судьба Фархата, неизвестно. До Туркестана дошли смутные слухи о том, что между бандами сразу же вспыхнула борьба за лидерство их вожака, а через год, в 1937 году, в Ташкент прибыл большой десант чекистов из России, и со всеми более-менее крупными бандами было покончено. Вряд ли Фархат уцелел в этих двух потрясениях.
После смерти Таубая главой его большой семьи стал Торебек, Сарсенгуль уже ни во что не вмешивалась.
Братья решили женить Балмухана и спросили у него, есть ли у него на примете девушка. Он ответил, что в Ташкенте у него была красавица Зульфия, – о ней братья и слышать не хотели. После этого начали зондировать почву у родителей потенциальных невест, но желающих получить в зятья разбойника Балмухана почему-то не находилось.
Наконец, Шамши узнал, что у одной вдовы четыре дочери и сын и ей явно хотелось выпроводить старшую, которая закрывала дорогу младшим. И он договорился с ней.
Когда Рыскуль – так звали невесту – узнала, что ее хотят выдать за Балмухана, она зарыдала и сказала, что, видимо, мать хочет ее убить, но, тем не менее, выхода не было, и она, трясясь от страха, все же дала согласие выйти замуж за того, к кому ее приговорили.
Рыскуль была неприметной серой мышкой, тихой и боязливой. Перед самой свадьбой, когда она впервые увидела своего суженого, с мохнатой бородой и бешеными глазами, она чуть не упала в обморок и была уверена, что муж задушит ее в первую же брачную ночь, и всячески оттягивала это. Но неизбежная ночь пришла, и она ждала, когда же он начнет душить, все ее мысли были только о его мощных ручищах, которые должны схватить ее за горло. И Рыскуль даже не почувствовала другой его мощи и поутру удивлялась тому, что осталась живой, и в течение еще целого года ночами дрожала от страха. Только после того, как родила первенца Кайсара, она более-менее успокоилась.
Но уже через три года все стали обращать внимание на то, как эта «серая мышь» повелевает своим «разбойником». Поведение «серой мышки» не изменилось: она по-прежнему вела себя очень скромно, говорила тихим голосом и к своему мужу обращалась со всеми признаками видимой покорности, но все ее пожелания тут же исполнялись быстрее всех самых строгих приказов. Малейшее изменение тембра голоса жены приводило Балмухана в трепет, и не было мужа покорнее него.
Торебек недовольно говорил Балмухану: «Послушай, мы хотели, чтобы ты стал смирнее, но не в такой же степени. Ты что, так боишься своей жены?» Балмухан, опустив голову, только отмалчивался. Четверо парней, узнав об этой его слабости, решили посмеяться над ним при людях, но, как выяснилось, Балмухан в обращении с мужчинами остался прежним, он четырьмя ударами тут же уложил их на месте, а наиболее дерзкого из них избил так, что тот полгода пролежал в больнице.
После этого никто другой больше не смел говорить о его покорности «серой мышке», а Торебек смирился и с этим. Всего этого Сарсенгуль уже не увидела: когда у Балмухана появился первенец, постаревшая Сарсенгуль не отходила от малыша и, доведя его до сорока дней, очень тихо и неприметно покинула этот мир.
Глава 17. Война
Никто из сыновей Таубая не получил ни высшего, ни даже среднего специального образования, все они выполняли простую работу, но жизнь у них и у их семей постепенно налаживалась: они поселились в более лучших домах, появился достаток, дети учились в школах, и многие из них успешно.
Но неожиданно грянул вселенский гром, началась Вторая мировая война, о последствиях которой тогда никто не догадывался.
В Советском Союзе началась всеобщая мобилизация. Призыв казахов на войну отличался своей особенностью. Из тех областей и районов, где были наиболее сильные восстания и выступления против советской власти, поначалу их не призывали. Из Туркестана, который находился рядом с Сузаком, где произошло одно из сильных восстаний, призывали очень избирательно, и поначалу он не коснулся семьи Таубаевых (сыновья Таубая взяли его имя в качестве фамилии).
Но летом 1942 года по всему огромному советско-германскому фронту советские войска начали терпеть поражение, не меньшее, чем в шоковом 1941 году, и военные комиссариаты начали всеобщий призыв, причем иногда призывали и многодетных, так как они официально не регистрировали своих детей.
В сентябре все четверо Таубаевых получили повестки в военкомат. Первым вызвали младшего брата, Балмухана. Райвоенком выстроил всех призывников, а так как большинство казахов и узбеков не понимало русский язык, он на ломаном казахском сказал, чтобы они готовились к отправке на фронт, но тут к нему подошел человек в штатском и что-то прошептал.
По виду военкома было видно, что он не очень доволен его словами, но, тем не менее, он сделал небрежный разрешающий знак кивком головы.
Этот полный мужчина подошел к неровному строю и, отобрав четырех рослых и сильных на вид парней, велел им идти за ним.
На небольшой открытой площадке за военкоматом они увидели дощатый настил с укреплениями снизу, который под уклоном был прислонен к прочной железной раме. Возле основания рамы лежали два канара (большие мешки) с хлопком, метрах в тридцати от них – еще шесть канаров, уложенных друг на друга. Этот мужчина подвел парней к стопе канаров и сказал, что каждый из них должен поднять по одному канару и, пройдя по настилу наверх, сбросить его вниз, на те два канара, а затем поднять его обратно и отнести на старое место. И повторить эту процедуру четырежды.
Ребята расхохотались и спросили, что это за забава. Но организатор этой «забавы» был настроен серьезно. Он приказным тоном велел выполнять его указания.
По разу канар доставили все. Во второй раз один сошел с дистанции. Из оставшихся троих один сильно запыхался и даже не стал браться за третий. Двое, и среди них Балмухан, одолели третий и четвертый круги, причем Балмухан даже не вспотел, а его напарник весь покрылся потом и тут же сел на землю. Толстяк записал фамилии обоих в блокнот и сделал какие-то особые пометки возле них.
Следующими призвали Торебека и Шамши, и они тоже попали в число тех, кто прошел странное испытание. Когда Торебек легко вскинул на одно плечо канар, Шамши поднял другой и водрузил на второе его плечо, Торебек невозмутимо понес оба канара. Толстяку было достаточно одного такого прохода, и он, отозвав его, записал фамилию. Шамши прошел все четыре круга и тоже оказался в этом списке. И Айберген через два дня, пройдя это испытание, попал в этот список.
На третий день после последнего канарного испытания в военкомат отдельно вызвали двадцать человек, которых записал Толстяк. Их построили перед военкоматом, и Толстяк, представившись директором хлопкоочистительного завода, в присутствии военкома объявил, что им будет выделена бронь и они не поедут на фронт. Горожане знали, что в самом начале войны в Туркестане быстрыми темпами был построен большой хлопкоочистительный завод, так как Туркестанский район был самым северным в Средней Азии, следовательно, и во всем Советском Союзе, где выращивался хлопок. Он располагался на единственной железной дороге, связывавшей Среднюю Азию с Центром, и был ближе всего к нему. (Позже люди узнали, что хлопок является важнейшим стратегическим сырьем – компонентом пороха.)
Толстяк пояснил, что за недостатком техники они будут заниматься погрузкой канаров с хлопком в железнодорожные вагоны и сейчас могут расходиться, но завтра в 7 часов должны быть на заводе, а там военная дисциплина и никаких опозданий не допускается.
Все парни в растерянности смотрели друг на друга, не зная, как реагировать на эту новость, и родители нескольких из них, которые стояли невдалеке, с радостью бросились обнимать своих сыновей.
Торебек отвел своих братьев в сторону и коротко сказал: «В такое время мы не можем отсиживаться дома, но один из нас должен остаться, чтобы приглядывать за всеми нашими семьями. Мы оставим самого младшего из нас». При этом он не стал пояснять, что следует древней казахской традиции. Балмухан хотел было протестовать, но Торебек повелительно сказал ему: «Закрой рот».
Эти простые люди не разбирались в политике, они понятия не имели, что собой представляют вражеская Германия и ее союзники и на каких территориях сейчас с ними идет война. Они не знали, кто такой Сталин и за что его прославляют. Они помнили, какие беды принесла советская власть их народу. Но вместе с тем они ясно понимали: пришел враг – и их тюркское подсознание говорило, что его надо прогнать.
Торебек подошел к директору завода, стоявшему рядом с военкомом, и сказал об их решении. Тот начал протестовать, но военком на русском языке сказал: «Простите, но вы можете отбирать себе людей только с их согласия».
И, дотянувшись до плеча Торебека, он одобрительно похлопал: «Молодцы, вы настоящие патриоты». Казахам такой жест не нравится, поэтому Торебек вежливо скинул руку военкома со своего плеча.
Глава 18. Пути братьев
В течение недели трех братьев отправили на разные фронты различными составами. Айберген попал на Северо-Западный фронт, воевал он храбро, и о нем можно было бы написать много, но, не умаляя его достоинств, хочется свои скромные усилия посвятить его братьям, судьбы которых были более необычными. Айберген любил своих братьев, и он бы это правильно понял. Он погиб под Великими Луками в начале декабря 1943 года. Когда пришла «черная бумага» с записью «Погиб смертью храбрых», весь род Таубаевых погрузился в траур.
18.1. Путь Шамши
Как вы уже догадались, плут Шамши умел привлекать к себе людей, и автор не исключение. Поэтому, нарушая принципы старшинства, начнем с него.
Шамши оказался в 6-й армии Юго-Западного фронта. Знание русского языка, смелость и особенно его веселый характер сразу же расположили к нему не только славянских солдат, но и офицеров. Уже через три месяца ему присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения.
Весной 1943 года большая часть его дивизии попала в окружение под Харьковом, и, когда все вокруг подняли руки, сдался и он.
Военнопленных отправили в Германию, в концлагерь. Но даже здесь Шамши не унывал и добился расположения немцев: они определили его уборщиком в столовую для охранников. Оттуда он приносил кое-какую еду, которую раздавал соседям.
В бараке, в котором он проживал, некоторые военнопленные отнеслись к его «успехам» с подозрением, и трое из них, ребята не слабые на вид, с угрозами подошли к нему. Сосед Шамши по нарам, украинец Микола Несторенко, который несколько месяцев в окопах хлебал с ним щи из одного котелка, встал рядом и сказал: «Хлопцы, Шура (так он называл Шамши) – хороший парень, и он никогда никого не предавал и не предаст, просто у него такой характер. Он даже с чертом найдет общий язык».
В ответ он услышал: «Нашелся тоже мне защитник узкоглазого», – и получил удар в ухо. Драка длилась с полчаса, трое нападавших лежали на полу, у двух друзей лица были в кровоподтеках, а Шамши лишился к тому же еще и зуба. Но после этого уже никто не приставал ни к Шамши, ни к Миколе.
Через месяц-другой, похоже, не без ходатайства Шамши, их забрали на завод, где кормили лучше, но работы было больше. После Сталинграда и Курской битвы отношение немцев к русским военнопленным – а все советские считались русскими – стало меняться, их стали больше уважать, и во взгляде уже не было былого презрения.
В начале 1944 года Шамши выпала удача: его определили в семью одной немецкой вдовы работать по хозяйству. Раньше ей помогал болезненного вида батрак, но с ухудшением положения на фронте таких как он забрали на фронт, а их места заняли военнопленные, считавшиеся лояльными. Она жила в сельской местности, рядом с домом был луг и небольшая речка.
У вдовы было трое детей – два мальчика и девочка – и большое хозяйство. Дом был необычной для Шамши постройки, под одной огромной крышей, опирающейся на столбы, находились хозяйственные постройки и жилой дом, причем даже в помещениях для скота были чистота и порядок, которого у нас нет даже дома, подумал Шамши. А дом был как игрушка, нарядный и красивый. Вдова держала десяток коров, около тридцати свиней и с сотню гусей и уток. И у нее был еще большой огород. Хозяйку звали Гертруда, это была крепко сбитая дебелая женщина приятной наружности.
Когда грязного, чумазого и худого Шамши в лохмотьях доставили к Гертруде, она, даже не взглянув на него, отвела его в сарай, где был топчан, дала ему одежду, оставшуюся от батрака, и поставила перед ним на табуретку тарелку с супом, хлеб и кусок колбасы. Очень быстро это съев, Шамши растянулся на топчане и почувствовал себя в раю.
На другой день, в шесть часов утра, его разбудили, и он работал допоздна. И так изо дня в день. Огородом занималась сама Гертруда, весь скот и работу по хозяйству она поручила Шамши, а за птицами бегали дети. Несмотря на тяжелый труд, относительно хорошее питание, чистый воздух и ласковая природа благотворно подействовали на Шамши, уже через месяц он округлился, побелел, его рыжие волосы переливались золотистыми красками, а зеленые глаза озорно блестели. Хозяйка сменила одежду батрака на поношенную одежду своего покойного мужа, которая ему пришлась впору.
Дети, поначалу смотревшие на него как на диковинного зверя, стали постепенно приближаться к нему и просить сделать то или иное, и Шамши с удовольствием исполнял их просьбы. Они стали называть его даже дядей Шульцем.
Однажды Гертруда, возвращаясь с рынка, вошла в свои ворота и вдруг увидела какого-то мужчину, моющегося под краном. Она невольно залюбовалась его ладным и мускулистым телом. «Кто же это может быть, столь свободно чувствующий себя в моем дворе?» – подумала она. Когда она подошла ближе, то узнала в нем Шамши. С тех пор ее стали одолевать странные чувства, которые она старалась всячески в себе подавить. Она все больше думала о Шамши, о том, как он хорошо говорит на немецком языке и вообще мало чем отличается от немцев, ее предубеждение постепенно сменялось влечением, а боязнь осуждения окружающих стала слабеть. Жизненные соки, бродившие в еще неутоленной женщине, и необоримые желания в мужчине в расцвете сил, против воли влекшие их друг к другу, сделали свое дело, и они нашли согласие.
Ловкие, гибкие и сильные пальцы Шамши прохаживались по податливому телу Гертруды, как по роялю, и извлекали из нее такие нежные звуки, что ее душа в упоении улетала в небеса. «Эти варвары все-таки сильны своей природой, – ласково думала она, – и они инстинктивно предугадывают все желания женщины». Их нежные отношения отразились и на статусе Шамши: из батрака он превратился в помощника и переселился из сарая в давно пустовавший флигель. Гертруда стала даже одевать его в новые одежды.
Шамши никогда не рассказывал, говорил ли он своей Гертруде, что именно он является истинным арийцем, но если бы даже сказал, она бы, наверное, согласилась. У Шамши хватало ума не злоупотреблять своим положением, он по-прежнему при посторонних и детях по первому зову бросался выполнять распоряжения хозяйки и стоял перед ней по стойке «смирно». Но как только они оставались наедине, они становились равными, и их воркованию не было конца.
Между тем советские войска все ближе подходили к Германии, а затем и захватили ее. Шамши опять попал в концлагерь, но уже в свой. Условия там были ничем не лучше, чем в немецком. Он не знал, как сложилась судьба Гертруды и ее детей, но всегда с нежностью вспоминал о ней. Шамши и в «родной» душегубке не унывал, на лесоповале, в тайге, где работали заключенные, часто случались вывихи и переломы, и его талант костоправа был весьма к месту, а за такие услуги пострадавшие делились с ним пайкой и почитали.
Однажды сынишка начальника лагеря упал с большого дерева и получил множество переломов. Стонущего от боли мальчика доставили в санчасть, и его отец требовал от врача что-нибудь сделать, но тот только разводил руками и беспомощно моргал глазами.
Один из замов начальника вспомнил о костоправном умении Шамши и сказал об этом ему. Тот не очень верил в шаманов, но сейчас был готов ухватиться за любую соломинку и велел привести его. Шамши доставили, и начальник непривычным для него голосом, с переплетением повелительности и мольбы, спросил у него: может ли он помочь? Шамши молча согрел руки у печки, затем помыл и смазал их жиром и принялся за дело. Попутно он дал указание срочно сварить бараний бульон с большим количеством лука и добавить туда красного перца.
Все, что произошло дальше, распространилось далеко за пределы лагеря, в изложении упомянутого замначальника, чувствовавшего свою причастность к этому делу.
– Перед Шурой (это имя опять вернулось к Шамши), – говорил с упоением зам, – находилась груда переломанных костей, обтянутых кожей, и этот чародей своими гибкими, как змейки, пальцами собрал каждую кость отдельно, затем расставил их по местам, обложил тело мальчика тоненькими дощечками из тары, обмотал их и накормил мальчугана крепким бульоном. После этого он закутал его множеством одеял, и тот стал обливаться потом. И уснул. Вы не поверите, – торжествующе заключил зам, – через три недели он стал ходить, конечно, с палочкой, но ходить. А еще через две недели он скакал, как молодой олень!
Стоит ли удивляться тому, что вскоре Шамши разрешили вольное поселение с самыми широкими правами. А через год его досрочно освободили за образцовое поведение. Таким образом, Шамши объявился в Туркестане уже весной 1949 года. Причем не один, а с девушкой. Мы забыли сказать о том, что Шамши к тому времени был соломенным вдовцом: пока он воевал, сидел в концлагерях, чужих и своих, жена Шырын устала его ждать и однажды заявила его родственникам, что уходит.
Балмухан, оставшийся за главного в роде Таубая, не стал противиться и только сказал: «Оставь нашего сына и уходи куда хочешь». Шырын пыталась воспротивиться, но Балмухан был непреклонен. Она ушла, долго думала, с кем-то советовалась и вновь пришла к Балмухану и заявила, что хочет остаться. Но Балмухан ответил ей: «Нет, теперь уходи». И она ушла.
Мнения о выборе Шамши и его спутнице у родственников разошлись. Старики молчали, и это молчание было красноречивым, старушки и пожилые женщины осуждали Шамши и говорили: «Почему этот балбес не мог выбрать одну из наших девушек, среди которых немало красавиц? А ведь при нынешнем недостатке женихов любая бы пошла за него!». А их описания нежданной невесты звучали так: «Глаза ее не черные и не карие, и не живые, как у наших девушек, а тусклые, как соль, лицо, как мел, а волосы, как солома. Где он нашел такую?». Девушки ревниво поглядывали на избранницу Шамши... и фыркали.
Зато молодые парни бурно восторгались: «Глаза у нее голубые и чистые, как небо после дождя, кожа белая, как молозиво (высшая оценка белизны у казахов), волосы золотистые, а стан как у молодой лани, и, кроме того, она намного моложе Шамши».
Зина – так звали новую невестку – долго жила в изоляции и тоске. Все здесь было необычно для нее: от глинобитного дома с маленькими окнами, языка, вида людей и их поведения до неуклюжей одежды, непривычной еды и невыносимой жары почти полгода. И, откровенно говоря, чуждо.
Она долго плакала, вспоминала предостережения некоторых своих родных и близких об «этих азиатах, которые оденут ее в паранджу и будут издеваться над ней» и даже порывалась уехать обратно, но любовь Шамши и стыд перед родными за свой поступок удерживали ее. Она осталась и постепенно начала привыкать.
В первую очередь она наладила контакт с сыном Шамши, Ермеком. Мальчишка в отсутствие отца был сыт и одет, с ним хорошо обращались, но он не чувствовал материнского, женского тепла и потянулся к ней. Затем Шамши пошел к своей снохе-вдове и попросил ее взять опеку над Злихой, та не сразу, но все же согласилась, так как Шамши помогал ей тянуть вдовью лямку. Войдя во вкус, она стала резко обрывать тех, кто за глаза говорил недобрые слова о Злихе (так стали называть на казахский лад Зину).
Русскую невестку эти первые успехи вдохновили, и она усиленно принялась изучать казахский язык, а затем взялась за доскональное изучение национальных традиций и обычаев. Стала одеваться только в национальную одежду и никогда не ходила без платка. Она родила четверых детей – трех мальчишек и одну дочку, все они были рыжеволосыми, сероглазыми и белотелыми, но под южным солнцем их тела загорели и стали смуглыми.
Неспешно прошло двадцать лет. Злиха тоже посмуглела, и ее новая раскачивающаяся походка, как будто она ехала на лошади, ничем не отличалась от походки других казахских женщин. Постепенно она стала главной среди них, на всех свадьбах, торжествах и поминках ее слово было решающим: как все это устроить, кого куда посадить и кому какой костюм или отрез дать. Со всеми она говорила только по-казахски, особенно с русскими, и никогда не отзывалась на имя Зина. Злиха поняла, что любая женщина, выходящая замуж за мужчину другой национальности, должна принять не только мужа, его семью, но и культуру, обычаи и даже предрассудки его народа. Провожая сыновей в армию, она настоятельно предостерегала их от того, чтобы они там женились. Те слушались ее и искали невест по возвращении, только с ее благословения. Это не означало, что она отреклась от русскости, нет, она воспитывала детей в любви к русской культуре, но считала главным познание своей казахской культуры. Шамши любил ее и создал ей условия, которые были в его силах.
18.2. Торебек
Теперь о судьбе Торебека. Его посадили в товарный вагон вместе с другими новобранцами, довезли до Гурьева, а оттуда на расхлябанных машинах до тренировочного лагеря на левом берегу Ахтубы.
В лагере их по прусской традиции, заимствованной российской армейской школой и перенятой красными командирами, три дня учили соблюдать строй и маршировать. Казахи не понимали команд на русском языке, русские офицеры орали на них и матерились. Затем они по понтонному мосту переправились через Ахтубу, построились в колонны и пешим маршем направились к Сталинграду, к основному руслу Волги. Только одному из каждых троих вручили винтовку.
После первого дня их марша в небе стали появляться немецкие самолеты, обстреливавшие бежавших в разные стороны советских солдат. Поэтому стали двигаться только ночью. К третьей ночи Торебек увидел перед собой поразительную картину: казалось, там, впереди, извиваются тела многих десятков огромных драконов, изрыгающих пламя, издающих немыслимый рев и уничтожающих все живое. Они дошли до берега Волги, их посадили в баржи, и, когда они стали переправляться, вода вокруг них от разрыва сотен снарядов и тысяч осколков кипела, как кипяток; примерно треть барж затонула, а на тех, что остались на плаву, половина людей были убиты и ранены. Те, кто уцелел, пройдя по берегу две сотни метров, тут же оказались на передовой, в траншеях.
Немцы шли в атаку почти беспрерывно, волна за волной. В одной из таких атак над Торебеком навис огромный немец. Торебек стащил его вниз за ногу и задушил. У него очутился немецкий автомат, который казался игрушечным в его больших руках. Он не знал, как с ним обращаться, и обменял его с одним солдатом на винтовку. Удивительно было то, что в этом кромешном аду по ночам солдатам дважды доставляли еду. Услышав, что в армейской пище в основном мясо свинины, Торебек вначале не хотел ее есть, но голод взял свое, и он, зная, что Тенгри более снисходителен к выбору пищи, чем Аллах, испросил у него разрешения и стал есть свинину, пообещав после войны сразу же отказаться от нее.
Когда немецкие атаки начали ослабевать, теперь уже русские бойцы, и среди них казахи, тоже считавшиеся таковыми, стали подниматься в атаку и отбросили немцев на два километра от берега реки. Как писал английский журналист и писатель Александр Верт в своей книге «Россия в войне», немцы, увидев раскосые глаза, темный лик и бешеный оскал казахов, решили, что против них бросили мифических монголов. Через несколько дней боев казахи, проявившие особую смелость, стали пользоваться большим уважением, и в их адрес более не стали раздаваться насмешки. Торебека, который был намного старше остальных, окрестили «дядей-богатырем».
Тем временем в самом Сталинграде ситуация ухудшалась, и некоторые части бросили туда, в их составе оказался и Торебек. Ожесточенная битва в городе шла не только за каждый дом, этаж, но иногда и за одно помещение, одну комнату. И тогда линия фронта пролегала по какой-либо общей стене, как это произошло со взводом Торебека. Даже при таком остервенении люди остаются людьми. Однажды один немец заиграл на губной гармошке «Катюшу» – ее вначале несмело, затем дружно подхватили русские солдаты, а им стали подпевать немцы: «Фиходил на перег Катюш...». Эта задушевная русская песня про девушку, тоскующую о любви, на мгновение объединила врагов – немцев и русских. После окончания песни по обе стороны стены установилась какая-то особая тишина, казалось, все, что происходило вокруг, – это страшный коллективный сон, и все они сейчас проснутся и окажутся в окружении своих родных, близких и любимых.
Вдруг в проеме показалась рука немца, между пальцами которой были зажаты галеты и сигареты. Один из русских взял их и поделил между своими. После этого та же рука подала несколько банок шпротов в сопровождении слов: «Рус шапка, шапка.». У одного русского была запасная шапка, доставшаяся от погибшего друга, и он ее подал. Какому-то немцу нужны были валенки, и он их получил. Оттуда донеслись одобрительные возгласы: «Карошо, карошо!»
Так начался натуральный обмен, и порой происходил торг, скажем, за сумку со шпротами и галетами немцы просили шубу, но когда шуба оказалась рваной, прозвучало: «Найн, найн», – после чего туда передали шубу получше. Все, что русские получали от немцев, они воспринимали как деликатесы. (Но когда сталинградский «котел» закрылся, снабжение немцев ухудшилось, и доходило до того, что они ели кошек, собак и трупы лошадей.)
Но вот передышка закончилась, и один из немецких солдат, давая это понять, пустил автоматную очередь по потолку на советской стороне. И вновь враги схлестнулись в кровавой схватке.
После разгрома немецких войск и их союзников под Сталинградом советские войска перешли в наступление. И летом 1943 года под Таганрогом несколько осколков снаряда попали в Торебека, один из них – в позвоночник. В госпитале почти все осколки вытащили, кроме того, что был в позвоночнике: так как им был поражен нерв, его не стали трогать.
Торебека списали и отправили в тыл. Маленький кусочек металла в его теле абсолютно изменил его, огромный богатырь неимоверной силы превратился в иссохший скелет с бледным и впалым лицом. И когда, еле передвигаясь, он появился дома, его не узнали.
18.3. Балмухан в тылу
Балмухан был сердит на Торебека, за то, что он оставил его дома, но ослушаться не посмел. Когда братья уехали на фронт, он стал работать на хлопкозаводе. Работа была тяжелая и опасная, приходилось по десять часов в сутки, с небольшими перерывами, шесть дней в неделю, при одном выходном, загружать мешки весом по сто килограммов в вагоны. Не все выдерживали, многие уходили: одни – калеками, а другие – на фронт. Балмухан относительно легко все это переносил, и это его устраивало, да и с едой было неплохо: на работе дважды сытно кормили и давали хорошие пайки.
Его больше напрягала забота о трех семьях братьев и о своей собственной, и не в том смысле, что он это делал против воли, а потому что это было для него непривычно. Все семьи жили в разных частях города, и он по графику посещал каждую из них раз в полмесяца, старался помочь им чем мог: деньгами, едой, а иногда делал работу, где требовались мужские руки. «Серая мышка» как-то проявила свое недовольство, но Балмухан так взбычился, что она больше никогда не касалась этой темы.
Однажды неожиданно объявился Хаким. Они обнялись, тепло поговорили, стараясь не впадать в опасные воспоминания. Он был председателем колхоза и потому получил бронь от призыва на фронт. После этого Хаким приезжал раз в месяц и привозил мешок муки, около десяти килограммов мяса, а во второй половине лета и первой половине осени – дополнительно по мешку арбузов, дынь и тыкв.
Поначалу Балмухан пытался протестовать, но Хаким его не стал слушать и все выгрузил, а позже его бывший главарь молча принимал все это и испытывал непривычное для него щемящее чувство в груди. Он тут же все делил на четыре части, с учетом ртов, и развозил их на коне по привычным адресам. Он стал заботливым отцом для всех детей и, когда приезжал, они с криками «коке, коке (батя, батя)» выбегали ему навстречу и бросались на шею.
В самом начале 1944 года, как уже говорилось, с запозданием пришла «черная бумага» о том, что Айберген погиб. В доме у Айбергена собрались ближние и дальние родственники, соседи и оплакали его. Балмухан устроил ас (тризну) по этому случаю.
Жена Айбергена Кунсулу осталась с двумя детьми – мальчиком и девочкой. Она целую неделю проплакала, затем как-то резко успокоилась, и на лице у нее появилось какое-то странное выражение, сочетавшее в себе упрямство, горе и бесшабашность.
Кунсулу оставила детей у Назипы и, сказав, что вернется через несколько дней, ушла. Все решили, что она поехала к своим родственникам близ Саурана. Вернулась Кунсулу дней через десять с безразличным выражением лица и, забрав детей, пошла к себе в дом.
Месяца через три все женщины стали шушукаться, кивая в ее сторону. У Кунсулу обозначилась округлость в животе, которая все более увеличивалась. Мужчины стали осуждающе смотреть на нее.
Последним эту новость узнал Балмухан. Он тут же прискакал к ней, хотел выгнать Кунсулу из ее же дома и забрать к себе ее детей. Но у нее сидела Назипа, и она, остановив его, сурово сказала: «Тебе не понять бабью долю, не трожь ее!». Балмухан ушел, хлопнув дверью, и перестал заходить в этот дом.
Кунсулу и ее детей взяла под свою опеку Назипа. Она же помогла выходить и родившегося третьего ребенка, мальчика. Долгое время другие родственники мужа обходили дом Кунсулу стороной, но после этого случая за Кунсулу не было замечено ничего предосудительного: она вела очень строгий образ жизни, и постепенно, не без влияния Назипы, ее вернули в общий круг. По-своему с этим смирился и Балмухан, он отдавал долю Кунсулу Назипе, а та передавала ей. Все эти заботы и трудное время заметно изменили Балмухана, он стал сдержаннее, серьезнее и даже начал постепенно учиться молитвам у муллы.
Глава 19. Детдом
Мороз крепчал. По Тургайской степи шли молодые мужчина и женщина, мужчина вел за руку подростка, а женщина держала на руках годовалого ребенка. Вокруг выли волки, но они не нападали на живых, для них хватало трупов, валявшихся повсюду. Это был декабрь 1931-го – года голодомора. Путники поднялись на пригорок, с которого был виден поселок Тургай.
Мужчина, которого звали Жанкельди, дядя подростка, по приметам, рассказанным им другом, узнал нужное ему небольшое здание и, указав на него пальцем, сказал: «Рахым, сынок, вон в том здании находится детский дом, иди туда, они возьмут тебя, а мы пойдем дальше, попробуем добраться до родственников». Голос дяди прерывался, лицо его исказилось, и вся его большая фигура содрогалась в конвульсиях от безысходности. Для казаха самое святое – это кровь, и вот он вынужден оставить родного племянника на произвол судьбы. Мужчина порывисто снял с себя шубу, накрыл ею подростка и, достав из наплечной сумки мешочек, отдал ему. Рахым знал, что там маленький кусочек казы (конской колбасы) и ломоть хлеба, последние их припасы. Знала это и жена дяди, которая голодным взглядом сопроводила передачу, но ничего не сказала. Затем дядя нервно обнял племянника, из его горла вместо слов послышалось какое-то клокотанье, и, резко развернувшись, он стал быстро удаляться. Жена с ребенком поплелась за ним. Рахым, полный сирота, родители которого скончались в начале года от голода, не сказал ни слова и, согнувшись, тихо пошел в сторону указанного им здания.
Детский дом располагался в приземистом здании с полутора десятком комнат, бывшем одной из первых в Степи школ. Две трети здания были выделены для жилья и подсобных помещений, а треть, с наиболее большими комнатами, – для учебных занятий, но так как детдом был рассчитан только на пятьдесят детей, а здесь уже находилось более ста, некоторые дети постарше спали в классных комнатах. Дети располагались по восемь-девять человек в одной комнате, спали на тюфяках прямо на полу. Простыни, подушки и одеяла были старые и застиранные, но чистые. Нормированную еду приходилось растягивать на всех, она состояла из жидкого супа с маленьким кусочком конины, пшенной каши в три столовые ложки и бледного чая, а в придачу тоненький, чуть толще писчей бумаги, кусок хлеба.
Директор детского дома – казах с изможденным лицом, со впалыми щеками и воспаленными глазами – выглядел на пятьдесят лет, хотя фактически ему было только тридцать. Обслуживающий персонал состоял из четырех человек: кухарки, прачки, уборщицы и русского кучера, который на старой бричке с молодым жеребцом снабжал детдом всем необходимым. Учителей было всего три: старая женщина, татарка, преподавала географию и историю, молодой человек лет двадцати – физику и математику, мужчина средних лет – русский и казахский языки, а сам директор – химию. В случае необходимости учителя заменяли друг друга.
Одежды на детей не хватало, и ее дошивали сами женщины из любого материала, который доставался им. Поэтому она состояла из кусков самых экзотических оттенков, и многие дети напоминали попугаев, которых они никогда не видели.
Вот каков был приют, к которому подошел Рахым. Возле здания никого не было, но в нем раздавались громкие детские голоса. Рахым подошел к двустворчатой двери и постучал, ее долго не открывали, но, наконец, она заскрипела, и в проеме показалась пожилая женщина. Она даже не стала спрашивать, что ему надо, а сразу сказала: «Сынок, мест нет». А дальше все было как обычно: подросток заплакал, и сердобольная женщина, не выдержав, впустила его, проведя по коридору, по которому туда-сюда шмыгали ребята, указала на дверь директора.
Рахым постучал, в ответ раздался голос: «Входи». Он вошел в маленькую комнату, в которой был небольшой стол, три стула и несколько мешков с бельем в углу. Директор при виде подростка глубоко вздохнул, усадил на стул и стал расспрашивать его, кто он и откуда. Рахым сказал, что он из аула Акшыганак, а отец его был сапожником.
Отец, мать и все ближайшие родственники скончались, а про дядю он не стал говорить. Он добавил, что закончил четырехлетнюю школу, поэтому умеет читать и писать по-казахски и немного по-русски, чему его обучил одинокий русский.
Директор встал, подошел к двери и сказал одному из детей, чтобы он позвал тетю Асипу, прачку. Вскоре она пришла, и начальник ей сказал: «Снимите с него всю одежду (так он назвал рванье на Рахыме), искупайте и оденьте в нашу одежду». Асипа, взяв подростка за руки, повела его по коридору, а возле входных дверей он запросился в уборную. Та открыла входную дверь и указала на несколько деревянных будок у левого угла здания: «Давай быстрей сбегай, я тебя подожду». Рахым, путаясь в шубе и спотыкаясь, забежал в одну из будок. И когда выходил, уронил шапку-ушанку, дырявую и грязную, и не стал ее надевать на голову, а заткнул ее в одну из дыр уборной. Всю одежду с него сняли, шубу передали кучеру, его искупали и дали детдомовскую одежду.
Против ожиданий Рахыма, мальчики его не задирали и вели себя смирно, никаких драк и потасовок не наблюдалось, так как за любую провинность могли выставить на улицу. Так началась детдомовская жизнь Рахыма. В каждой учебной комнате сидело в основном по три класса: первый, второй и третий; четвертый, пятый и шестой: и, наконец, седьмой и восьмой – девятый только ожидался. Наиболее перегруженной была вторая группа – в ней занимались 45 человек, в первой – 40, а в третьей – 20. Планировалось, что те, кто более-менее успешно закончит девять классов, будут переводиться в районную школу для завершения полного курса, а остальные получат справку о неполном среднем образовании.
Примерно через две недели после того, как Рахым поселился в детдоме, вдруг весь его маленький персонал пришел в сильное возбуждение: как оказалось, из Кустаная в Тургай приехала какая-то комиссия, которая посетит и их детдом. Ничего хорошего от нее не ждали. И вот комиссия, состоявшая из трех человек, прибыла. Один из них, лет сорока, чернявый, худой, с усиками, вроде бы не похожий на рыжих русских, одетый в черную кожу: куртку, сапоги и фуражку, – был, по всей видимости, старшим. Возле него вертелся лупоглазый, круглолицый и коренастый казах, похожий на жабу, который все время заглядывал в лицо Черной Коже. Третьей была молодая казашка с растерянным лицом, в красной косынке под теплым платком, приспущенным на плечи.
Директор встретил их перед зданием, ввел в свой кабинет, где они с трудом уместились. Черная Кожа все время молчал, а Жаба беспрестанно говорил и, как бы сверяя свои слова, поглядывал на Черную Кожу, а Красная Косынка пугливо хлопала глазами.
Жаба сказал директору: «Покажи свое хозяйство». Директор согласно кивнул головой, провел их по коридорам детдома, рассказывая, где и что у них располагается. Дети сидели по своим комнатам и испуганно глядели на высоких гостей. Когда очередь дошла до столовой, Жаба шепнул директору: «Кстати, мы очень проголодались». Директор привык встречать местных чиновников, но тут начальство было поважнее, и он не был уверен, правильно ли все делает, и это ощущалось в его скованных движениях. Он прошел в дальний угол столовой, сдвинул вместе два небольших стола, расставил вокруг них стулья поновее и покрепче и крикнул кухарке: «Подавай».
Кухарка подала каждому по тарелке щи, на середину стола поставила тарелку с вареным мясом, нарезанный хлеб и стаканы с компотом, а перед каждым – по ложке и вилке. Жаба потребовал подать пустую тарелку и, когда ее принесли, отобрал наиболее сочные куски мяса, положил их на эту тарелку и поставил ее перед Черной Кожей. Черная Кожа навертел на вилку большой кусок мяса и, тщательно осмотрев ее, съел, то же он проделал со вторым и третьим кусками. Глянув на жидковатый борщ, слипшийся хлеб и мутный компот, он сказал, что больше ничего не хочет, и попросил подать ему кипяченой воды. Жаба съел все, включая большую часть оставшегося мяса и половину хлеба. Красная Косынка поела немного щи, выпила весь компот. Вытащив белый платочек, завернула в него три кусочка хлеба и положила в карман. Жаба стал делать выразительные жесты, постукивая пальцем по горлу, но директор только развел руками: водки у него не было. Жаба остался недовольным.
После этого они опять прошли в кабинет, и Черная Кожа произнес: «У вас большая скученность, дети одеты как попало и нет никакой гигиены. Советская власть рассчитывает на то, что именно в детских домах из бедноты будут воспитываться новые люди, которые в корне изменят жизнь в этой глухой и малолюдной степи». Он хотел добавить: «...никогда не знавшей, что такое культура», но, взглянув на напряженное лицо директора, не стал продолжать и замолчал. Это стало неким сигналом для Жабы, он тут же потребовал списки детей. Разговор шел на русском и казахском языках.
Директор вытащил из стола грязные рукописные списки и подал их. Жаба перелистал и недоуменно спросил:
– А почему не указано их социальное происхождение?
– У части из них есть такие справки, – сказал директор и достал кипу бумаг: – Но не у всех, ведь это дети-сироты, у которых никого нет.
– Но их не волчица родила, – сказал, намекая на тюркскую легенду, Жаба, – у них же были человеческие родители. Почему, прежде чем их принять, ты не установил их родителей?
– У меня нет такой возможности.
– То есть получается, ты здесь содержишь байских выкормышей, жалеешь их детей, а ты знаешь, как эти баи обходились с нами, бедняками?
– Я сам из бедноты и знал разных баев, среди них были живодеры, а были и заботливые хозяева, но в любом случае дети не могут отвечать за своих отцов.
– Да я вижу, ты убежденный защитник баев!
Черной Коже надоел этот спор, и он сказал Жабе, кивнув на Красную Косынку: «Ты вместе с ней разберись в этом вопросе, а я должен ехать в райком». И уехал. После отъезда начальника Жаба совсем раздулся и стал еще непреклоннее. Взяв списки, он угрожающе сказал: «Сейчас я быстро вычищу твоих байчуков». Красная Косынка, немного осмелевшая после отъезда Черной Кожи, произнесла казахскую пословицу: «Может, не стоит, желая постричь волосы, снимать головы», – тем самым давая понять, что они не получали указания заниматься чисткой детдома. Но Жаба бросил ей: «Твоя задача – не мешать мне, а помогать. А если будешь лезть не в свое дело, в следующий раз обойдемся без тебя». Красная Косынка замолчала. Перебрав все списки, Жаба отметил около двадцати фамилий, среди них и Рахыма, и спросил: «Где их справки?». Директор ответил, что справки в большинстве своем предоставили те, кто живет в поселке и недалеко от него, а те, кто приехал издалека, не смогли этого сделать, – и отстоял нескольких ребят.
Сам Жаба, проявив показную гуманность, вычеркнул из этого списка детей младше пяти лет, и в нем осталось двенадцать имен. После этого их вызвали и построили в коридоре. Дети не могли понять, зачем. Жаба с суровым видом встал перед ними и спросил: «Кто из вас дети бедняков?» Большинство, в их числе и Рахым, подняли руки. Двое не подняли и, насупившись, смотрели на Жабу. Их сразу отделили. У тех, кто поднял руки, спросили, могут ли они доставить справки о бедняцком происхождении. Те молчали, и тогда Жаба сказал, что всем им придется уйти из детдома. Тут поднялся страшный вой.
Рахым тоже заплакал и вдруг вспомнил, что дядя, перед тем как с ним расстаться, снял с него шапку и сунул какую-то бумажку за ее отворот со словами, что она может ему пригодиться. Он тут же, выскочив из ряда, распахнул наружную дверь и побежал к уборной. Впрочем, чем ближе он к ней приближался, тем более сомневался, что шапка там. Но она неприметно торчала в угловой щели! Подросток трясущимися руками вытащил шапку, достал из нее потрепанную бумагу и, даже не читая и не зная, что там написано, бросился обратно и протянул ее Жабе. Жаба развернул бумажку – в ней было написано фиолетовыми чернилами от руки:
Справка
Дана Рахыму Бакбергенову, 1917 года рождения, в том, что он является сыном... бедняка-сапожника Бакбергена, скончавшегося в январе 1931 года. Мать у него тоже умерла.
Далее неразборчивая подпись, фамилия секретаря аульного совета, треугольная печать и дата.
Жаба небрежно повертел бумажку в руках и изрек: «Этого можно оставить».
Вообще-то семья Рахыма была состоятельной и по степным меркам жила заметно выше среднего, а его дед и прадеды избирались общиной – биями, сочетавшими в себе функции судей и толкователей традиций. Но когда пришла большевистская власть, благополучие развеялось как дым от потухшего костра, и предусмотрительный отец Рахыма Бакберген избрал себе пролетарскую работу – сапожника.
Когда секретарь аульного совета узнал, что Жанкельди, двоюродный брат его скончавшегося друга, собирается отдать племянника в детский дом, то тут же написал справку на первой бумажке, попавшейся под руку, и вручил ему. И этот клочок грязной, мятой бумаги с полутора десятком небрежно написанных слов спас жизнь мальчика.
Всех остальных Жаба потребовал погрузить на бричку и вывезти подальше в степь... Весь персонал, который слушал все это, отказался выполнить требование. Жаба грозился всех расстрелять, если они не выполнят его приказ, но никто не сдвинулся с места. Тогда он сам сел в бричку и поехал в отделение милиции, а вскоре вернулся с двумя подвыпившими милиционерами. Те стали сажать в бричку плачущих ребят, большинство покорно подчинились, но некоторые сопротивлялись, и их силой заставили сесть. Два байчука сели сами, но не покорно, а с дерзким видом, и один из них презрительно процедил в адрес Жабы: «Шошка (свинья)!». Тот побагровел, дернулся и хотел что-то сказать, но промолчал. Затем всех, кто сел, привязали к бричке.
Кучер, проехав метров пятьдесят, сошел с облучка и, не оборачиваясь, пошел прочь. Один из милиционеров вытащил наган и хотел выстрелить, но другой остановил его и сам сел за козлы. Этих ребят больше никто не видел... Через час, когда оставшиеся вошли в кабинет директора, то увидели его тело висящим на веревке, привязанной к крюку. Снятый с крюка портрет Ленина стоял на полу и, прислоненный к стене, выглядывал одним безжалостным глазом между ног висельника. После этого Черная Кожа получил повышение и уехал в Кызылорду, Жаба исчез, и никто не знал, куда.
(Продолжение следует)

5365 раз
показано0
комментарий