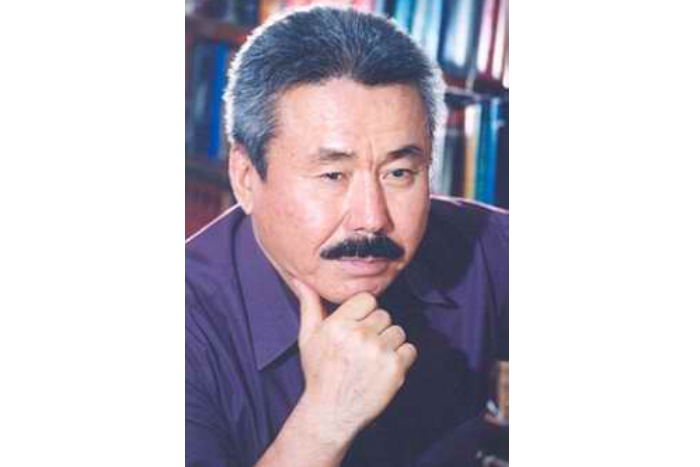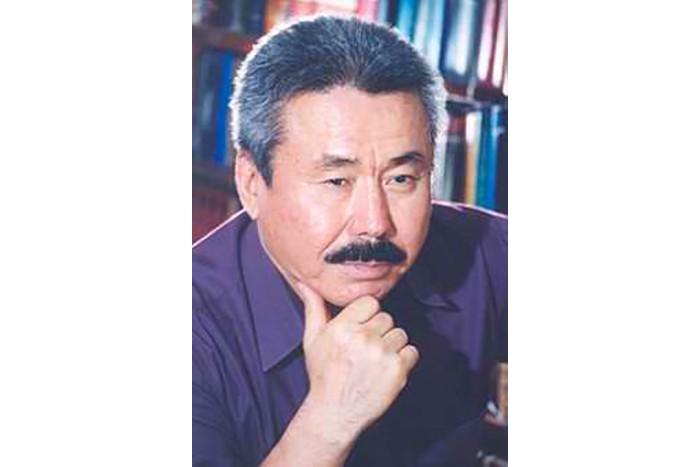- Исторические страницы
- 16 Июня, 2014
Михаил Шмулёв: «Я от своей судьбы не отрекаюсь»
К 75-летию начала Второй мировой войны
Великая Отечественная война. Для каждого из ее участников она сложилась по-своему. Бывший офицер Красной Армии, участник трех войн алматинец Михаил Павлович ШМУЛЁВ уцелел, сохранился. И закалился. Причем, не только на полях сражений, но и в адовых кругах сначала лагерей для военнопленных, а потом и наших, советских.
– У нас ведь сегодня дата, – говорит Михаил Павлович, – 60 лет со дня начала войны. Той самой, что обернулась трагедией для многих народов и унесла миллионы человеческих жизней. Идут годы, минуют десятилетия, но живет, живет в памяти тех, кто участвовал в ней, то, что выпало на их долю. А выпадало разное. У кого-то был прямой, нормальный путь, а у кого-то так не получилось в силу определенной нравственно-идеологической окраски нашей страны, бывшего режима и существовавшего тогда строя. Оно бы, наверное, и войны не было, будь эта окраска иной. Но она была, и вот мне, например, удалось, пройдя все перипетии ее адовых кругов, остаться в живых и даже не утратить своего «я». То есть, с точки зрения самой высокой морали, я прошел тройную закалку – военную, лагерно-военнопленную и лагерно-советскую.
– Но это было все потом. А с чего все начиналось?
– Начало Великой Отечественной войны захватило меня в самом пекле, а именно в Бресте. В тот момент я служил в 42-й дивизии. До этого участвовал в Финской кампании, после чего мы передислоцировались в Латвию и присоединили ее. Да, именно присоединили, хотя официально объявлялось, что там было народное волеизлияние по поводу вхождения в Советский Союз, и что происходило все это путем референдума. Ерунда! Перед тем, как войти Латвию, мы получили боевой приказ: как только поступит распоряжение, взять такие-то и такие-то заставы! Правда, правительство ее сразу, без какого-либо сопротивления приняло предъявленный нашей стороной ультиматум. Ну, а куда ему было деваться? Латвийская пограничная служба имела в своем составе одну тысячу солдат – это я до сих пор помню, а тут наш 1001-й батальон! Как они не поднимут руки! И вот так, под нашим давлением у них установилась советская власть. А оттуда в 1940-м, когда мы там уже затвердились, нас перебазировали в Западную Белоруссию, а затем в Брестскую крепость. После года службы в ней я пошел на повышение, получил звание старшины ДАРМа – дивизионно-артиллерийских ремонтных мастерских и был переведен в сам Брест, в химгородок, что внутри города. Прошло месяца четыре, и вот в один из дней я ощутил в самом себе какое-то беспокойство. Мучило что-то непонятное – видать, было предчувствие. В голову лезли сплошь тревожные мысли. Мы ведь уже предполагали, что немцы все равно нападут на нас. И не только по слухам. Буквально накануне со мной случилось так – идет совещание старшего комсостава, а я тут рядом. Слышу, докладчик говорит: «Приспешники Гитлера рассчитывают, что у нас при пограничной полосе имеется то-то и то-то. Они имеют сведения о нашем расположении». То есть, понял я, комсостав уже знает, что вот-вот грядет наступление. Но все равно немцы застали нас врасплох – пока мы раскачались!.. И вот настала та самая, предчувствуемая мною ночь. Только я, было, задремал, как вдруг не то гром, не то какой-то невообразимый грохот. Прямо рядом с нами. Брест-то, он на границе с крепостью, совсем близко от нас, и все видно, как есть. Самолеты летят, бомбы падают. Что-то горит, что-то взрывается, артиллерийский парк в гаубичном полку разбит – ни одного орудия. Ошеломленный, я решил – наверное, это учения!. Шел ведь все время разговор о том, что вот-вот будут маневры. А когда выскочил на улицу – снаряд ба-бах! И часовой, тот, что только что стоял, – голова его там, а туловище – в другой стороне. Ну, какие уж тут учения! Это было начало длинной и полной огромных человеческих потерь войны.
– Какое же страшное и трагическое это начало!
– Да-а! А мы должны были в случае военной тревоги собраться в определенном сборном пункте. И я до сих пор чувствую свою вину. Почему? Да потому, что говорю дневальному: «Ты никуда не отходи, пока не будет дан на то приказ!». Оно вроде понятно – здесь ведь имущество, казарма – надо охранять. А сам с ребятами – на сборный пункт. Там срочная эвакуация жен военнослужащих и вспомогательных тыловых частей, и нам, оружейно-артиллерийской мастерской, велено заниматься этим. И лишь когда отправка их была закончена, и дело дошло до нас, я вспомнил об этом самом дневальном. Бросился отменить свое распоряжение, но ни самой казармы, ни парнишки этого не осталось и в помине. Все было разрушено немецкими снарядами, и вопрос о том, что сталось ним – жив он или погиб этом в самом месте, мучает меня всю жизнь. Однако в тот момент было не до переживаний и раздумий. Отправив последнюю партию наших подопечных, мы бросились к машинам и начали в спешном порядке отходить. Пробиваемся. На первых порах организованно, но немцы и этот путь начали бомбить. Шоссе исковеркали, а справа и слева лес – машины не проходят. Пришлось действовать по обстановке. Дезорганизация была полная, командование наше отстало от нас, и лишь через неделю мы с ним соединились. Отходили, отходили. А передовые части тоже были все взбаламучены. В общем, немцы шли беспрепятственно, потому что у нас во вспомогательных войсках оружие было не боевое, а учебное, с дырочками на стволах в нижней части. Стрелять нельзя было, а можно лишь целиться и курком щелкать – боевой запас в снаряжении отсутствовал. Думаю, что то же положение наблюдалось и в передовых частях. То есть, войска в практическом смысле были не готовы к встрече с противником. Или авиация тоже – где она? Немецкие стаи, армады летят, а у нас самолеты только готовятся. Потом из глубин России начали подходить.
– Но почему же все было именно так? Может, командование наше все-таки не верило в то, что война все-таки начнется?
– Не знаю, где как, но в нашей части, как я только что сказал, предполагали, что немцы нападут все равно. Оказывается, западная печать упреждала наше командование о том, что они перебрасывают войска на восточную границу с СССР, а ТАСС на это отвечал, что речь идет лишь о передислокации. Но ведь заявление это было не более, чем лукавством, потому что за десять дней до войны в Бресте были составлены списки и адреса для эвакуации семей среднего офицерского состава. Правда, в силу знакомой всем нам расхлябанности к этому как следует не подготовились. Были и другие симптомы надвигающейся трагедии, которые можно определить как состояние тревоги. И вот бомбежка, разгром, и – наше отступление. Те, что были в самой крепости, остались в окружении и вели бои, а кто оказался вне ее, отходили под натиском и бомбежкой. Через четыре дня мы оказались в Минске. А 27-28 июня Минск был сдан. То есть, настолько стремительным было немецкое наступление с его знаменитыми бронетанковыми войсками, которыми мы, когда в сороковом году они прошли Голландию и Бельгию на Францию, восторгались. Да, именно восторгались! У нас ведь был в то время с Гитлером договор о ненападении, и мы открыто симпатизировали немцам, потому что он, Гитлер, был наш союзник.
– Хорош союзник! Усыпил самым что ни на есть подлым образом вашу бдительность, а потом внезапно напал!
– Ну, насчет внезапности, это как сказать. Само нападение, было, конечно, внезапным, но военная разведка и военные штабы, конечно, знали, что оно состоится. А в официальной информационной службе… В ней были свои игры. Так однажды там появилось такое оповещение: «ТАСС уполномочен сообщить, что в западной печати появляются сообщения о том, будто немцы перебрасывают свои войска на восточную границу с СССР. Однако, полагаясь на компетентные источники, мы заявляем, что это неправда, поскольку действия эти есть не что иное, как передислокация и маневровка немецкой армии». Это я сам читал. А чуть ли не на второй день мне, старшине по званию, командование наших мастерских передало сведения об эвакуации семей военнослужащих. Семей с их адресами – кто где живет. Значит, понял я, секретное сообщение о нападении немцев уже получено, и начинается срочная подготовка к эвакуации. Когда же я понес начальнику штаба эти бумаги, которые были вручены мне в распечатанном пакете, он премного удивился: «Кто, скажите мне, мог передать все это через вас, да еще в открытом виде?». Оказывается, такого рода поручение могло быть дано только служащему среднего офицерского состава, а я относился к младшему. Правда, в тот момент я не придал этому значения, и лишь потом расценил все так, как это следовало понимать.
– Что, что-то серьезное за всем этим стояло?
– Я бы сказал, очень свойственное для жесточайшего режима тех лет. Полученные за десять дней до начала войны секретные сведения о предстоящем нападении немцев сопровождались, как я только что сказал, распоряжением о подготовке к эвакуации. Но в силу нашей русской расхлябанности, это не было сделано так, как того требовал очень ответственный по своим последствиям момент. И что вышло? А то, что командующего Западным особым военным округом генерала армии Павлова и ряд других генералов по указу Сталина расстреляли как предателей за то, что они не подготовились к нападению на нашу страну стремящегося к мировому господству фюрера. Но ведь никакого предательства с их стороны не было! Это ведь оно, верховное руководство, затянуло эту недостойную игру и не успело оградить свой народ от фашистского маньяка по имени Гитлер, хотя знало, что он – безусловный враг, и все маневрирование его не что иное, как уловки дипломатии! Разгадывание этих уловок – удел руководства, на то они и политики! Ну а когда там что-то не сработало – тут же нашли стрелочника в лице Павлова. И это несмотря на то, что он был любимцем Сталина. Павлов воевал в Испании – был комбригом, за три-четыре года вырос до генерала армии. Но вот, как говорят, – осечка, и нашли ответчика. Что ж, Сталин был беспощаден – сегодня он любит, а завтра отбрасывает. Сколько генералов таким образом сгинуло! Да и не только генералов. Во время Финской кампании и к окончанию ее командиром полка был у нас старший лейтенант. Да-да, старший лейтенант! И что это значит? Это значит, что весь командный состав 37-м годом был выбит, то есть расстрелян. Ведь во главе полка должен быть не кто иной, как полковник! А где его, полковника, было в то время взять? Вот и поставлен был старший лейтенант! Так что вина Сталина заключается в том, что он, стремясь оздоровить свое окружение, оставив самых преданных, свел на нет достойных, хорошо подготовленных, верой и правдой служивших ему людей.
Ну вот. Под Минском наше ремонтное подразделение оказалось не у дел. Какой ремонт? Нужны мастерские, инструменты. Да и что ремонтировать? Немцев на время задержали, леса остановили их тоже, а потом они пошли новой волной. И мы откатились под Иван-город, что в Белоруссии, и в одной из стычек с немецкими автоматчиками меня ранило. Машина наша застряла, а они, автоматчики, прорвались к нам в тыл и начали нас обстреливать. Пуля пробила мне руку навылет. Забинтовал и пошел дальше. Это было в середине сентября. Начались бесконечные бомбежки. Немцы – они ведь были мастерами прорывов. На машинах – хоп! – выбросят летучий десант, то бишь, автоматный отряд в двадцать-тридцать человек, на несколько километров вперед от основной линии посеют панику, шороху наделают, и наши от страха отступают. Автомобилизация у них была на высочайшем уровне.
– То есть они цивилизованно завоевывали нашу страну?
– Что да, то да. Особенно на начальном этапе войны. Вскоре мы оказались под Полтавой – в Перятине-Лудном. Там немцы взяли в окружение тылы четырех наших армий. Тех, что отходили из Белоруссии и Украины. Очень много наших людей было взято в плен. По данным зарубежных обозревателей, в первые три месяца войны их насчитывалось три с половиной миллиона. Правда, наши, как правило, в своих оперативных сводках уменьшали эти потери в десять раз. Немцы не были подготовлены к такому своему успеху, а значит, и к тому, чтобы принять пленных. Лагеря, казармы – ничего этого не было. Загоняли людей в какое-нибудь село, окружали, проводили, если было можно, проволочное заграждение, привозили питание – свеклу, брюкву, и эти пленные умирали, конечно, пачками. Вот так. Нам же все-таки удалось вырваться из этого кольца, и мне, как и всем остальным нашим ремонтникам, пришлось перебираться через реку Диканьку. С одной действующей рукой. Было, конечно, нелегко, но пока перебирались, рану мою промыло водой, заплата моя отошла, никакого заражения, все зажило, как на собаке. А потом мы отходили к Харькову. Немцы заняли уже эти места, но спасибо, местные жители подсказывали нам, как пройти их и остаться незамеченными. Вскоре мы вышли на сборный пункт. Там в то время работал особый отдел контрразведки, и нас подробно расспрашивали, как все произошло, как мы выходили, не было ли контактов с немцами? Правда, пока это делалось без каких-то страшных последствий – СМЕРШ был потом. Ну а мы… Мы вблизи немцев не видели – только на расстоянии. С первым из них глаза в глаза на поле боя я столкнулся уже в 44-м году – после плена. Столкнулся тогда, когда понимал, что должен его убить. Это самый такой момент, который в этом возрасте – мне было 23 года – начинает тебя мучить. Единственное, что оправдывает меня, – это была как бы дуэль. До сих пор ты стрелял по ходу боя, стрелял в своего врага как в мишень или как в силуэт. А тут абсолютная видимость. Он живой человек, стреляет в меня, а я в него. Он из-за дерева, и я тоже. В Чехословакии это было. Из автоматов. Он целится в меня, пули свистят, но мимо, а потом я – раз, а он – брык! Тут еще такая деталь – я был после плена, никакого снаряжения у меня не было. Мне после допросов в особом отделе никакого восстановления в офицерском звании не делали. Сказали – в бой, а там разберемся! Штаны гражданские, туфли – гражданские, подошва оторвалась. Только гимнастерка военная. Я подошел к нему, уже бездыханному. Молодой солдат, виноватая и в то же время недоуменная, вопрошающая улыбка – за что? Хотя, может, я потом все это дорисовал в воображении. Я вытащил, как полагалось, у него документы – ефрейтор. На нем ботинки. Снял, попробовал надеть – малы, и я бросил их. Через такое-то время мы отошли, взять деревню не смогли. И я подумал – найдут этого солдата, ботинок снят, лежит рядом. Они будут думать – в чем дело? Почему он разут? То есть восстановить картину будет трудно. Меня долго свербила эта мысль. До сих пор он у меня перед глазами. Но одно оправдание – если бы не я его, то он убил бы меня. Законы войны – они ведь как законы дуэли.
– Вы говорите, что попали под расспросы особистов. Что за этим последовало?
– Отправка в тыл на формирование запасных полков. Война, как вы понимаете, продолжалась, немцы двигались, захватывая одно селение за другим. И когда ими был взят Киев, остатки разбитых наших частей эвакуировали в Уфу. В Уфе я оказался в военной школе, где прошел за четыре месяца курсы, и мне, учитывая, что я воевал в Финляндии и недавно при отступлении был ранен, присвоили внеочередное звание лейтенанта.
– А в Финляндии вы были «от» и «до»?
– Нет. Я попал в Ленинградский военный округ в запасной полк, который готовил минометчиков, а потом нас направили в народную армию. О ней мало кто сейчас знает – это все коммунистические затеи. Первый город взяли – Териоки, сейчас Зеленогорск, двадцать километров от границы. Взяли его. Организовалось народное якобы правительство Финляндии во главе с Отто Куусиненом. Якобы свое министерство обороны, якобы своя народная армия, якобы народ Финляндии восстает против Маннергейма.
– А вы что – были как бы народом Финляндии?
– Да. Брали для этого тех, кто знает Сибирь. Я из Алтайского края происхождением, из Сибири, лыжный. И меня зачисляют во 2-й легколыжный батальон. Боевая задача – водрузить Красное Знамя над Президентским дворцом в Хельсинки. Задача была поставлена, и мы вступили в бой. Зима, холод, февраль, движения нет. Остановились у линии Маннергейма и там задержались до 8-го марта. Стоим. Дальше хода нет, потери большие, зима, войска не подготовлены к морозам. Представляете, наши армейские шинели и – трескучие карельские морозы! Телогрейки, полушубки привезли только для отдельных командиров и разведчиков. Потом начали подбрасывать ботинки, обмотки. Боже мой, все по пословице, которая была более чем применительна к нашей тогдашней армии – «гром не грянет, мужик не перекрестится!». Когда начали обмораживаться – давай валенки, пимы из Сибири и других складов доставлять. Думали – раз, и готово! Могучим ударом быстро-быстро победим! Но – увы! – вынуждены были заключить перемирие, и все – кончилась война в Финляндии! Март, апрель, растаял снег, и мы отправились по всему Карельскому перешейку подбирать трофеи – неразорвавшиеся снаряды, мины, проволочные заграждения, пошли хоронить оставшиеся еще на берегу и в кустах трупы солдат. Вот таким образом полоса эта мной была уже пройдена.
– Ну а дальше?
– Дальше военная школа в Уфе, а также Высшая стрелковая тактическая школа офицерского состава «ВЫСТРЕЛ», по окончании которой меня оставили преподавать огневую подготовку. Я задержался в тылу, считайте, с начала 42-го года до 44-го. Учился сам и учил других в этих самых военных школах. И вот я, только что прошедший Финскую войну, читаю в учебном пособии: «Линия Маннергейма состояла из 45-50 рядов проволочных заграждений». Из 45-50 рядов? Но ведь это же абсурд! Такого быть не может! Я сам снимал эти самые заграждения, и их было 4-5 рядов! Так что пока цифра дошла до штаба, она увеличилась в десять раз. В чем дело? А очень просто – дефис при наборе текста утратился, получилось 45. Кстати, эти данные попали потом в военную и общую энциклопедии! А тогда… Тогда я возьми да и скажи это своим слушателям! Мало того, я рассказал им эпизод известного произведения Юрия Тынянова «Подпоручик Киже», где почти подобная ошибка породила цепь нелепостей во времена императора Павла Первого. Слушали с большим интересом, а потом кто-то, как тогда говорили, донес куда следует. Реакция не замедлила быть. На второй день вызывает меня зам. начальника школы. «Особый отдел, – говорит, – очень тобой интересуется. Мол, про Финскую кампанию ты там черт-те что сочиняешь. И если ты, не дай Бог, попал в их список-кондуит, то в будущем тебе не миновать беды. Так вот, ты все время просился на передовую. Время настало. Скоро очередной выпуск наших слушателей, и я посоветовал бы тебе быть провожатым в отправке их на фронт. Вези-ка ты туда их сам, а не то загребут в штрафбат при первой же оплошности, и поминай, как звали».
– Время-то было более чем серьезное!
– Да-а, и мы знали, как это делается. Уже в те годы круто судили за восхваление вражеской техники – а я преподавал трофейное оружие. Отличное, высочайшего качества оружие. Слушателями же моими были понимающие в нем толк офицеры – вплоть до подполковников. И вот я, старший лейтенант, преподавал им, этим подполковникам! Статья за то самое восхваление – десять лет, она же – штрафной батальон. А штрафбат – это самые опасные для боя места, где потерь не считают. Правда, если в этом бою тебя ранит, то тем самым ты автоматически смоешь кровью своей вмененную тебе вину. Но какая тут, извините, вина? Какой такой проступок, если человек по простоте душевной скажет: «Надо же, как метко стреляют эти фашисты!». Словом, я сказал полковнику, что согласен.
Из Уфы меня отправили на Украину, на 2-й Украинский фронт, под Яссы. Готовилась Яссо-Кишиневская операция. Потом была Венгрия, дальше – Румыния. Наступление, а 20-го августа 1944 года – прорыв. И вот там, в бою под Турды-Клуш, меня ранило. Произошло это как-то безрассудно. Мы наступали, противник спешно отходил. Я был командиром роты, мое место должно быть позади боевых порядков. Но впереди же мои бойцы! И я вместе со своим ординарцем в боевом запале выскочил вперед и начал стрелять по фрицам из оставленного ими же пулемета. А наши, увлекшись преследованием, тем временем ушли, и мы с ординарцем остались. Пуля–трах, и его убило. А потом обстреляли меня. Я упал, а когда очнулся, то понял, что остался один. Бросился догонять своих. Речка. Я бродом прошел ее и до ночи залег. Ночью начал двигаться в поселок, думал, там наши, а оказалось – немцы. «Хенде хох!», и я оказался в их руках. Привели меня в дом, спрашивают – что с руками? Я показываю – раненный. Они доставили меня тут же в медпункт. Там мне разрезали ножницами шинель, вытаскивают шприц сделать укол, а я от врача. В сознании – немцы умерщвляют! Врач удивился и говорит – укол нужен, иначе столбняк, заражение! Ну, в конце концов, они меня перевязали и передали в госпиталь венграм. Вскоре этот госпиталь получил распоряжение поездом эвакуироваться в Будапешт, куда я и попал вместе с немецкими раненными солдатами.
– Как, со своими противниками? Но ведь они могли сделать с вами что угодно!
– Ну что вы! Даже близко ничего подобного не было. Никто из них не позволил себе какого-либо резкого слова в мой адрес, а уж тем более издевательства. Единственно, молодой немецкий солдат толкнул меня плечом и сказал: «А-а, сталинская коммуниста!». А уж в будапештском госпитале англо-американо-русская палата была, то есть союзников. Отношение врачей нормальное, человеческое. И допуск шведов – Красный Крест шведский. Сам Валленберг, граф Кутузов-Толстой с женой-шведкой приходили к нам, приносили виноград, фрукты, заботились, оказывали христианскую поддержку. Для них мы были не враги, а беспомощные люди. Кутузов-Толстой сказал: «Моя основная задача – сделать все возможное и невозможное, чтобы задержать вас до прихода русских и сохранить, вам, мои дорогие россияне, ваши жизни. Мы будем прилагать усилия для этого». И он подал шведам мысль открыть на другом берегу еще один специальный госпиталь для раненных русских, особенно из числа офицеров. Это тут же было сделано, врачами в нем были волонтеры – венгры дали только охрану, а остальное все было шведское. Правда, потом англичане совершили побег из этого госпиталя, чем усугубили нашу участь. Всех отправили в лагерь, находящийся в крепости Комарно, и потом в Австрию – в 17-й шталлаг, то есть государственный лагерь для военнопленных (не надо путать с внутренними концлагерями для немцев и для врагов). Они, военнопленные, работали там, в шталлагах, либо у бауэрах на фермах или на каких-то заводах. А в феврале 45-го года наши подходили уже к Австрии, готовилась берлинская операция, и немцы эвакуировали все лагеря вглубь Германии. Перспектива попасть в эту самую глубь меня не устраивала. Надо было готовиться к побегу, и я собрал скелет карты, вырезанный из венгерских газет, где говорилось о военных действиях и назывались крупные города, озера, реки. Хоть такой, но ориентир. В один из дней нас посадили в поезд и повезли невесть куда. Мы, заключенные, пытались прорезать в вагоне отверстие, через которое можно было бы бежать. Но удача нас опередила – обнаружилось, что конвойные, проверяя нас, в спешке не сумели накинуть задвижку так, чтобы закрыть нас замком. Поезд тронулся, мы после определенных усилий открыли двери, но если кто-то и колебался, то я первым с возгласом «Кто хочет свободы, за мной!» решился прыгнуть. Скатившись кубарем с откоса, я поднялся было, чтобы идти. Но не тут-то было. Нога болела от удара, к тому же становилось совсем светло, и надо было где-то скрыться. Вблизи начиналось кукурузное поле, я кое-как добрался до него, и это дало мне возможность укрыться в нем и спокойно днем отлежаться и хоть как-то восстановиться. Ну, а с наступлением темноты я направил свои стопы в сторону востока, держа направление, как нас учили в военной школе, по Полярной звезде. Я был в побеге пятнадцать дней, а потом во время бомбежки затесался в английскую колонну, надел их обмундирование и тем самым спасся.
– И что, англичане помогли вам это сделать?
– Не то слово! И я очень благодарен им за это. У нас, советских, было ведь как? В офицерском бараке на три человека один, а то и два конвойных – справа и слева. Особенно охраняют таких, как я – побывавших в побеге. Меня держат впереди. А у англичан и американцев на тысячу пленных офицеров всего два-три конвойных. Колонна растянута на три километра, и пленные везут с собой на тележке одежду, одеяла, продукты. На тележках! Четыре посылки по восемь килограммов от Международного Красного Креста в месяц, плюс две посылки с родины. Они все не успевали съедать и остатки бросали за проволоку немецким конвойным. Немецкие солдаты под конец войны питались, оказывается, эрзацем. Отпускалось пленным англичанам также денежное пособие по европейским нормам. И когда я пристал к их колонне, идущие в ней очень сочувственно отнеслись ко мне. «О, русский, русский!» – восклицали они. Растроганный этим, я начал помогать им нести рюкзаки, а они мне за это продукты, консервы. А продукты – тут и говорить нечего! Сыры, изюмы, фрукты, сгущенное сухое молоко, даже миниатюрные примус-керосинки походные, чтоб можно готовить было. Это вам не то, что у нас. У нас по закону Сталина, отказавшегося от членства нашей страны в Международном Красном Кресте, – никаких посылок, ничего! Так что суточный рацион наш включал в себя хлеб-эрзац 250 граммов, эрзац-кофе и один литр баланды два раза в день. Баланда из брюквы, репы, какой-то травы, смешанной с крупой. Мы, конечно, понимали причину сталинского отказа. Ведь в случае согласия пленные жили бы лучше, чем все остальные в Советском Союзе, поскольку такой бедности, нищеты и бесправия ни в одной стране мира не было. Тогда наших военнопленных было бы в десять раз больше, так как был бы своеобразный стимул не воевать, а сдаваться в плен. И лишь когда Шведский Красный Крест, представлявший интересы Советского Союза в Венгрии, был уполномочен взять на себя заботу о находящихся в госпитале раненых, это стало возможным. То был уже конец войны, и тогда мы убедились в различиях капитализма и коммунизма. Так, пока я был в госпитале, они согласно международной конвенции, выплатили мне сумму в пределах их заработной платы. Это были приличные деньги. А просто, без всяких Красных Крестов мы были подозрительными, под вопросом.
– Скажите, а как много было советских военнопленных за годы этой войны?
– У нас называли цифру в шесть миллионов, а сами немцы в листовках сообщали о десяти. И неудивительно, потому что в первый год войны целые армии попадали в окружение. Сбитые в каком-либо пятачке, доведенные до отчаяния, были вынуждены сдаваться в плен.
– Да, цифры далеко не утешительные!
– В мирное время много писали и говорили о высокой сознательности советского воина. О героизме и самопожертвовании во славу Родины. Но как только началась война, все было поставлено на принуждение и страх, на силу военных трибуналов. А затем были созданы штрафные роты, батальоны, которые можно было с полным правом назвать смертниками. Их не жалели. Если нужно было взять город или какую-то высотку, туда непременно посылались батальоны, которые были уснащены штрафниками, и они первыми погибали зачастую из-за бездарного командования. Прикрывались излюбленной формулой «любой ценой!». А цена эта – жизни человеческие. Вот так-то! Но вы думаете, что я вернулся в Советский Союз, не вкусив цивилизованного отношения к человеку как таковому? Не понял, что такое солдат на Западе, и что такое судьба их солдата-пленного и нашего, что такое солдат сталинский и западный? Там если солдат или офицер попадали в плен, при них оставались холодное оружие, форма, знаки отличия, ордена, у моряков – кортик. Кроме того, другая сторона выплачивала на них денежное содержание.
– Даже так?
– Представьте себе. Ну, а наши – что наши! Что про них говорить! Главной для них была идеологическая линия. Я не раз цитировал утвержденный в 1938 году Сталиным «Боевой устав пехоты», пункт 38, ст. 4, с которым мы подошли к войне. Там говорилось, что ничто, в том числе угроза смерти, не может заставить воина Красной Армии оказаться в руках недруга и тем более выдать военную тайну. То есть, если ты попал в руки врага, ты уже тем самым выдавал военную тайну. Ты уже враг и обязан покончить жизнь самоубийством. Офицер тем более. Я всегда думал – какая такая военная тайна у рядового и офицера? А военная тайна – даже фамилия командира полка.
Но вернусь к английской колонне и к тем ребятам-англичанам, которые так сострадательно отнеслись ко мне. Но не оставаться же мне было с ними навсегда! И с наступлением темноты (под ее покровом можно незаметно передвигаться) я им сказал: «Я – цурюк, назад!». «Куда, – ужаснулись они, – Россия?» и снабдили меня спичками, чем-то из одежды, накидали полный рюкзак пожалованных Красным Крестом и присланных из дома прекрасных продуктов. И вот я начал двигаться. Шел все дальше и дальше и вдруг услышал шум: конвойные и собаки! У них посты редкие, но собака и автоматчик – непременно. Не знаю, бежали они или нет, но лай раздавался непрестанно, автоматная очередь тоже, и наконец я задохнулся. Что делать, двинуться больше не могу, нет сил, и я взмолился: «О, Господи, если ты есть, помоги!». И упал в яму. Упал и – полная тишина. Ни очередей, ни лая собак. Сколько пролежал, не помню. А когда пришел в чувство, давай корить себя: «Ах ты, нехристь несчастный, ах, безбожник и атеист!». Спросите, почему? Да потому, что перед тем, как нам отправиться в шталлаг, нас, 250 русских офицеров в госпитале причащал православный священник венгерской армии. И все, включая майора, который был рядом со мной, приняли это причастие, кроме меня. Я отказался сделать это наотрез, сказав, что в Бога не верю. И вот теперь, когда настал момент, я воззвал к Нему, и он помог мне.
Когда я очнулся, смотрю – рассвет, никого вокруг меня нет. Все ушли, колонна снялась, никто меня не преследовал. Произошло это в Австрии, в знаменитых, воспетых Штраусом венских лесах. Прячась в них, я пролежал в той спасительной яме пять дней, поскольку днем идти было нельзя – вдруг встретишь кого не надо, а ночью… Ночью можно было заблудиться. Но вот, наконец, пошли ружейно-пулеметные очереди. Это значит, появились наши войска, и когда они оказались совсем близко, я вышел из укрытия. «Кто ты, что ты?» – спрашивают меня. Одежда на мне была смешанной – английская, чехословацкая, еще какая-то – не поймешь. Я говорю: «Мне нужна комендатура. Дважды я попадал в плен, оба раза удалось бежать, хочу к своим». Комендатура меня продержала всего лишь день, после чего было сказано: «Валяй своим ходом назад в Будапешт, там тебя определят, куда надо». Тогда ведь самый острый вопрос был только один: добровольно ли ты сдался, был ли во власовской армии? Если ты власовец, то все – в Союз, а там СМЕРШ разберется! А если нет – на фронт!
На тот тяжкий момент мне все вроде бы было ясно, кроме понятия добровольности. Я же вам рассказывал, что тылы четырех наших армий были тогда в окружении. Но ведь допускали это окружение генералы, а, ни в чем не повинные, доблестно сражавшиеся солдаты по их военной безграмотности, по их и сталинским просчетам попадали в плен. Якобы добровольно. Достаточно вспомнить о Харьковско-Барвенковской операции 1943-го года, когда решили немцев ударить одним махом, а сами оказались в котле. Тысячи, сотни тысяч людей оказались тогда в плену! Солдат, он ведь что? Он воюет, а в стратегических просчетах повинны генералы. Так что считайте, что это командование, а не солдаты оказалось в плену.
Но это, так сказать, размышления. А распоряжение надо исполнять. В Будапешт – так в Будапешт! Своим ходом, так своим ходом! А это значит – жди новых приключений!
– Но почему?
– А как в такой ситуации, как моя, было бы без них? В первом побеге, например, я вышел к лесной избе, постучал в дверь попросить немножко кенира, то есть хлеба. Запасов-то ведь у меня, понятное дело, никаких. Открывает высокий такой мадьяр. Я ему так и так. А он: «Кто ты такой?». Я говорю: «Русский». «Откуда, почему?». Объясняю, что сбежал из плена, а продуктовых запасов никаких. И он мне: «Пошли!». Заходим в комнату, на полу четверо немецких солдат. Спят. Глаза протерли: «Что такое?». «А вот русский пришел из лагеря. Просит хлеба». Они посмотрели на меня, повернулись как по команде каждый на свою сторону, и все. «Закрой, – говорят, дверь и выключи свет!». Я к выходу, хозяин за мной. «Уж повезло тебе, – говорит, – так повезло. Так что давай как можно быстрей уноси отсюда ноги, иначе я сам отведу тебя в полицию!». Открыл дверь и вытолкнул. А во втором побеге был такой расклад. В поисках комендатуры я зашел в маленький австрийский городок, а там два пьяных солдата. «А ты кто?» – спрашивают. «Я русский, бегу из плена, надеюсь на помощь. Мне нужна комендатура». «Не морочь голову, – говорит один из них. – Ни к чему тебе в комендатуру, мы тут сами с тобой разберемся. Ты, как видно, изменник и шпион! Или власовец». «Да что вы, – говорю, – ребята! Мне нужно...». «Ничего тебе не нужно! – и, вынимая пистолет, открывает ногой дверь в пустой сарай. – Быстро к стенке! Ох уж, как я тебя, тудыть-растудыть, сейчас расстреляю! И запомни: русский, дабы ты знал, – это не ты! Русский – это я! Такой-то фронт, такая-то армия. А ты… ты… А ну, сказал я, лицом к стенке!».
– Ну, а что вы?
– А я, как ни странно, ничуть не растерялся. Неприкрытая, злобная наглость его, меня взбесила, и я пошел ва-банк. «Да кто ты, – говорю, – такой, кто вы оба такие? Это, по какому такому праву к стенке? Если вы посмеете, хоть пальцем меня тронуть, вас тут же проверят, и вы ответите за все по полной. Это ведь, дорогие мои, не что иное, как самосуд. Откуда вы знаете, кто я и с кем имею дело? Может, у меня особо важное задание и особо важные, мною добытые сведения!». На приятеля распоясавшегося отморозка это повлияло. «Да ладно тебе, – начал он урезонивать еле стоящего на ногах выступальщика. И, закладывая его пистолет в кобуру, как бы извиняясь, мне: «А ты иди-иди давай! Иди да постарайся не попасть еще раз кому-нибудь из наших! Здесь сейчас все на взводе». Тем дело и кончилось. В другой раз судьба вывела меня на тропинку в лесу. Это оказался заповедник, где охотилась венгерская знать. Там была вооруженная охрана. Сразу же вопросы, допросы и очень скорое решение отвести меня в комендатуру. То был СД – немецкая служба безопасности, аналог нашему СМЕРШу. Там-то и начались настоящие допросы. Для немецкого офицера было важно установить, кто я – шпион, разведчик или обычный военнопленный беглец? Ему показалось подозрительными найденные у меня крохи карты, где были помечены карандашом города и села, через которые нужно проходить. Отметки эти мне удосужился сделать мой товарищ по нарам в крепости Комарно. Офицер спрашивает, что это за знаки, что за отметки – танки, самолеты, немецкие войска? Я как могу, доказываю, что это мой предполагаемый путь в побеге. Уже не отрицаю, даже подчеркиваю мой побег из вагона, мою незажившую еще рану. Говорю, что я не шпион, не разведчик, а простой, обычный военнопленный. Длилось все это долго, пока я не пустил последний козырь в доказательство, что я не шпион. Пусть господин офицер позвонит в город Комарно в крепостную комендатуру и узнает, что такого-то числа при этапировании в лагерь я, такой-то – такой-то, вместе со своими товарищами совершил побег. Ему это не составило большого труда, после чего он вызывает меня и говорит, что у меня счастливая звезда.

856 раз
показано0
комментарий