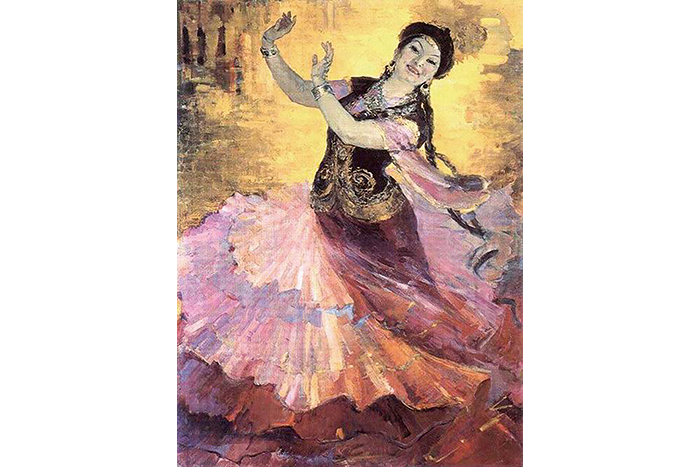- Культура
- 09 Июля, 2022
И Д У З А Т О Б О Й (эссе)

Александр Кан,
писатель
Я так долго по робости стоял в детстве в углу, что проблема движения занимала все мои детские, юношеские, взрослые годы, кстати, и до сих пор… Обыкновенно выходишь во двор, а там галдеж, на скамейках шумная дворовая компания, идешь мимо, краем, – позовут, не позовут? – по ходу изображая деловой вид, словно мать послала тебя что-то купить или у тебя дела, надо с кем-то встретиться, куда-то сходить, выходишь, наконец из двора…
Если во внешнем мире я – зажатый, робкий, застенчивый, – никак не умел двигаться, то внутри, взаперти, дома, – а мне до сих пор кажется, что большую часть детства я провел в одиночестве, – я двигался как бог, как Гермес, ведомый своим воображением. А именно, слоняясь по пустым коридорам, я однажды придумал игру, те же прятки, но, понятно, уже не с живыми людьми, а с призраками. К примеру, я представлял себе отца, который после расставания с матерью, так и остался, как патриот своей страны, в Корее, потом дедушку, репрессированного в 37-м году, о котором мы больше ничего не слышали, мать, которая с утра до вечера работала, чтобы прокормить меня и сестру, других родных и близких, затем изымал их, замурованных, из стен, так мне тогда казалось, собирал их вокруг себя, объявлял им, как добрый пионервожатый, правила игры, и после играл с ними, – прятался от них или искал, а если надоедало, вел с ними оживленные разговоры.
Этот детский фантастический метод, эту детскую легкость проникновения в Потустороннее, которую взрослые сочли бы просто за клинический случай, я заимствовал у себя же много лет спустя, когда писал свои повести и романы. То есть, я «размуровывал» родных и близких из глухих объемов прошлого, и вводил их в художественные пространства своих рассказов, давая им возможность вновь прожить жизнь, но уже другую, с моими поправками, более яркую и осмысленную, чем в земном воплощении, чтобы мои герои, проживая заново свое, заявили бы более ярко свой смысл, – Смысл Своей Жизни и Судьбы. Например, отец становился у меня тонким и чутким романтиком, безумно любившим мою мать, и пострадавшим за свое чувство под жерновами коммунистического режима. А бабушка проживала свою новую жизнь с тоской по любви: всю жизнь ее, любовь, искавшая, наконец обретшая в лице русского балетмейстера и вдруг, всего через несколько лет, после его трагической гибели, ее потерявшая. Мать же так и осталась той маленькой девочкой, которую после ареста родителей увезли в детский дом, и все ее наивное детское мироощущение как защита от жестокой взрослой жизни так и не изгладилось со временем. Себя же, неважно, в каких социальных обличиях представал, я воспринимал как некоего шамана, который своим непрестанным камланием заговаривал свое и наше совсем не ласковое прошлое, так образуя светлое будущее, в котором моя дочь, к примеру, должна была прожить более счастливую и свободную жизнь, чем ее родные.
Таким образом, я высвобождал близких, дорогих мне людей, замурованных прошлым, политическим режимом, исторической несправедливостью, расизмом и ксенофобией, собственными слабостями и ошибками, просто кривым и дырявым пространством и временем, и возвращал им жизни в своих рассказах, воскрешал их судьбы и смыслы, которые обыкновенно так стремительно рассеиваются с уходом людей, – в общем, восстанавливал и воссоздавал, следуя простому незыблемому правилу: ничто не забыто, никто не забыт. И свое сочинительство, свою литературу, я воспринимал уже как некое религиозное действо по воскрешению всех и вся, а точнее, если глубже и шире, по ВОЗВРАЩЕНИЮ ЖИВЫХ И УШЕДШИХ ИЗ ДУХОВНОГО НЕБЫТИЯ, ВСЕХ, КТО ЭТОГО ДОСТОИН, как бы это высокопарно ни звучало. Впрочем, именно так и должно звучать!
И от близких мне людей я шел уже к дальним, выходя за этнические границы, – через сочувствие, сопереживание, пытаясь обрести уже все человечество, и эта сила сострадания в отличие томления, страсти и вожделения, была абсолютной и бесконечной. Ибо истинный человек сострадает всегда – и когда он спит, и когда бодрствует, и когда он трезв, и когда пьян, и когда он весел или печален, когда он устал или работает, когда он любит или ненавидит, он способен сострадать всегда, в любой момент своего существования, такое он, к счастью, существо! Соответственно, свое сочинительство я уже выстраивал на основе этого бесценного чувства, опять же корнями уходившего в мое детство, ибо та игра с призраками затевалась мной в первую очередь потому, что мне было так жаль моих родных и дальних, живых или нас покинувших, впрочем, как и самого себя.
И так, совершенно чудесным, неожиданным образом, следуя за многими дорогими мне «Ты», я в конце концов повел их за собой, к более светлой, достойной и человеческой жизни, и теперь уже каждый из них мог сказать мне: «я иду за тобой», и эта магическая возможность изменения чьей-либо участи, восстановления справедливости в чьей-либо жизни, оправдания чьих-то ошибок и грехов, – во имя Добра, во имя его, добра, бесконечности, пусть даже ритуально, символически, всего лишь на белом листе бумаги, есть самый важный и ценностный дар, который может быть ниспослан человеку свыше.
ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ
А теперь обратимся к конкретике, к тем чертам и свойствам героев, которые мне принципиально важны в моем художественном движении, обретшем свой смысл, как получается, именно в тех пустых угрюмых коридорах. Для того чтобы рассмотреть их обстоятельно, я назову сначала имена любимых художников, – именно художников, а не писателей, для пущей, так сказать, зримой наглядности! – чье визуальное и метафизическое творчество неизгладимо повлияло на меня, или совпало с моими, набиравшими силу, художественными посылами. И перечислю я их в том порядке, какой мне требуется для развития моего рассказа.
Итак, в первую очередь, это Эдвард Хоппер (1882–1967), блистательный американский художник, который показал нам истинную пустынность человеческой жизни, причем не обязательно в каком-то ее негативном, антигуманном ключе, а во всей ее пустоте, глубине, как бы это странно ни звучало, и многообразии. А именно, все его одинокие мужчины и женщины, все эти «ночные ястребы», клерки, «комедианты», вступавшие в пустынные и потому немые пейзажи человеческой жизни, когда все другие словно сбежали в катакомбы, перед концом света, обретают на глазах зрителей, – через чувства робости, одиночества и беззащитности – мужество жить в этой всепроникающей пустоте, достойно, без дрожи, страха и оглядок. И в этом заключается их холодная величественная красота, ибо, зачем населять пейзажи людьми, сиречь, телами, словно вопрошает художник, если они все равно, слабые, неверные и ничтожные, предадут и покинут тебя, еще нуждающегося в чьей-то помощи, причем в самый ответственный момент. Поэтому именно через обретение твердости, мужества и бесстрашия, повторяю я, герои Хоппера могут жить и, что важно, быть в этом мире, становясь величественными, как Боги.
Понятно, что эта исходная ситуация под названием «Человек в Пустоте» очень близка мне в силу всех моих биографических и диаспорных обстоятельств, об этом мною многажды говорилось прежде, и если эта Пустота так равно вкралась в мою жизнь, то я не вправе от нее отказываться, равно как и от всего драматичного другого, в котором, обретая зрелость, я нахожу со временем все больший смысл и красоту.
Далее. Совершенно другой, но равновеликий художник, ирландец Фрэнсис Бэкон (1909–1992). В картинах Бэкона меня всегда пленяла его пронзительность по обретению заветного «Ты», которую он изображал через струящийся поток плоти, через ее, плоти, вихри и турбулентность, так достигая, парадоксальным образом, ее полной одухотворенности. И эта его нечеловеческая пронзительность, которая всегда драматична, обретала через его великий талант общечеловеческое звучание.
Мы начали предыдущую главу с ситуации «взаперти». Я не читал более прекрасного и трагического описания этого состояния, чем у московского писателя Евгения Харитонова (1941–1981), опять же запертого, замурованного своей сексуальной инаковостью еще в те, советские времена. И описание это таково (из книги «Слезы на цветах»):
«Я думал подсоединить звонок входной двери к кнопке возле подушки, и когда лежал в темноте, засыпая, и думал, сейчас придет кто-то ко мне, незаметно нажимал на кнопку и в тишине на всю квартиру раздавался резкий звонок. Так я играл со своим сердцем и оно, правда, замирало».
И здесь я хочу повторить свой давний тезис о диаспорной литературе, о том, что литература любых меньшинств, этнических ли, каких угодно еще, имеет общие, базовые, причем, множественные черты, одной из которых является нечеловеческая, как у Бэкона или Харитонова, пронзительность авторских посылов, обусловленная запретами в эпоху тоталитарных режимов всего аномального, будь то национальность инородца, или чья-то сексуальная ориентация. Таким образом, понятие Диаспоры, если мы говорим о высокой литературе и искусстве вообще, должно рассматривать не в каких-то этнических границах, а только и только в мировоззренческом ключе.
Наконец, третий столь важный для нас художник – норвежец Эдвард Мунк (1863–1944) со своим знаменитым «Криком». Если человеку наконец дается возможность сказать что-то самое важное, сокровенное, то он не находит ничего иного – так говорит Мунк! – как кричать отчаянно, истошно и бесконечно, и этот крик наполнил собой, своей энергией, своими красками, своей, так сказать, субстанцией, весь двадцатый век и уже наполняет век двадцать первый. В «Крике» мне важна бесконечность посыла, или его, героя и автора, неутолимость, и опять же понятно, почему: мы, коре сарам, а точнее, наши предки, вечные чужеземцы, так долго и смиренно молчали, склонив свои головы перед молохом режима, что, когда появилась возможность говорить, то мы сразу же, не сговариваясь, в одном безоглядном порыве, присоединились к герою знаменитой картины.
Итак, подытожим все сказанное нами: во-первых, мы имеем ситуацию человека в пустоте, его мужество принять ее и жить в извечной пустынности, от Хоппера; затем пронзительность, «турбулентность» попыток по обретению сокровенного «Ты», от Бэкона, и, наконец, бесконечность, неутолимость посылов, от Мунка. А теперь попытаемся найти в мировом искусстве то самое произведение, в котором удивительным образом совпали бы все вышеперечисленные интенции героев. Для этого я обращусь к мировому кинематографу, опять же для большей наглядности, и таким опытом для меня стал знаменитый фильм современного американского режиссера Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео» (1988). Рассмотрим это произведение с той мерой обстоятельности, которая нам необходима.
В провинциальный город к некоему Джону приезжает погостить его старый друг Грэм, как он сам себя называет, свободный художник. Джон, преуспевающий менеджер, активный, агрессивный, сексуальный, от скуки брака, изменяет своей жене Энн с ее сестрой Синтией. Таким образом, исходная ситуация в фильме – от Хоппера – налицо: герои пребывают в очевидном, но пока неявном для них, разобщении. Энн, чувствуя что-то неладное в отношениях с мужем, посещает исправно психоаналитика, а Джон и Синтия заполняют пустоту таким яростным сексом, ублажающим их тела, но опустошающим их души.
Однажды Грэм, вместо того чтобы соблазнить (в духе этой семьи) скучающую жену, предлагает Энн записать на камеру ее эротические фантазии, как это он делал с другими женщинами прежде, называя эти съемки своим, очень личным проектом. После некоторых колебаний Энн соглашается и делится с Грэмом сокровенным, касаясь не только сферы интимного, но и своих отношений к людям и к миру вообще. Причем этот процесс становится для нее настолько увлекательным и «эротичным», что она рассказывает о случившемся своей сестре. Тогда уже и Синтия, весьма заинтригованная, ищет встреч с Грэмом, чтобы внутренне обнажиться перед камерой.
Как видите, в повествование фильма вступает вторая наша ситуация, от Фрэнсиса Бэкона. Желание обрести в своей жизни собеседника, друга, соучастника у Энн так пронзительно, что она ищет новых встреч с Грэмом, чтобы рассказать ему о чем-то важном, о чем еще не рассказала ему, при этом ненароком вовлекая в это удивительное действо и свою сестру. При этом откровения ее, или Синтии, добившейся-таки заветной встречи, перед камерой становятся просто бесконечными, и здесь мы переходим к третьей ситуации от Эдварда Мунка: это действительно неутолимый крик, а точнее, монолог вдруг раскрывшейся женской души, неизбалованной участием, вниманием и пониманием.
В конце концов, Грэм своим «очень личным проектом» разрушает установленный ход в жизни семьи. Энн уходит от мужа к нему, а прозревшая Синтия прекращает всякие отношения с неутомимым любовником. В финале разъяренный Джон врывается в дом друга и крушит все подряд, – камеру, кассеты, телевизор, затем избивает его, и конечно, все это выглядит жалко и бессмысленно. Ибо мир человеческих фантазий, ассоциаций, мечтаний о несбыточном, в который раз побеждает мир земной, осязаемый, реальный и как бы сбывшийся. Таким образом, это блистательно снятое кинопроизведение, повествующее в жанре экзистенциальной драмы, есть еще одна притча для зрителей о бесконечности нашего духовного и душевного существования, а для меня как для автора является тем ярчайшим и редким примером в кино – высокого, глубокого и тонкого искусства.
ХОЛМЫ
Итак, подведем очередные итоги: движимый томлением, попытавшись стать маньяком, и не добившись успехов на этом хлипком, как болото, поприще, я стал сочинителем, хотя писатель это тоже в каком-то смысле маньяк, в своем безумном и бесконечном движении «вглубь и вовнутрь», и, значит, я не сильно изменил своему первоначальному порыву. Но, зарываясь, замуровываясь в своем воображаемом мире, сочинитель, поскольку все-таки живет на земле, вынужден время от времени выглядывать вовне, задаваясь вопросом, что же происходит в мире земном, который он так спасительно для души, и легкомысленно для тела покинул. Однажды это сделал и я, уже более двадцати лет обитавший в убежищах своих романов и рассказов, причем столько же времени прошло с начала Перестройки. Выбравшись наружу, я стал присматриваться к людям, знакомым или не очень, и проникался все большим удивлением, хотя столь же удивленно они могли смотреть на меня, как на дикаря и неофита земного пространства.
Так что же все-таки так удивляло и поражало меня? Для того чтобы ответить на этот непраздный вопрос, я приведу пример. Живой пример, каких на самом деле великое множество. А именно, у меня есть приятель, мой одноклассник, который, вероятно, был способным парнем, много читал, развивался, как говорится, подавал надежды, а учились мы с ним в прекрасной, чуть ли не первой в Советском Союзе, физико-математической школе, и, если бы не исторический катаклизм, он мог бы стать хорошим ученым. Но грянула Перестройка, империя обрушилась, исчезла, и в образовавшейся пустоте все бросились, как могли, зарабатывать деньги. Бросился в бизнес и мой приятель, и со временем даже преуспел, заимел какое-то предприятие, которое он сохранил и развил благодаря своему терпению, силе воли, смекалке, я понимаю, необходимому конформизму, но, в первую очередь благодаря родственным связям. Ведь по-другому успешного бизнеса в бывшем Союзе не обрести, и, следовательно, этим связям, надо было как-то соответствовать, то есть, не запить, не сорваться как минимум, не послать все к чертям, к такой-то матери.
Но дело даже не в этом, а в том, что, когда мы с ним встретились, по поводу очередного юбилея с момента окончания школы, он поразил меня полной, почти нескрываемой апатией к жизни, или попросту отсутствием всяких интересов. Те же книги, которые так любил, он читать перестал, ибо засыпал, как сам мне жаловался, на первой странице. На людей он смотрел утилитарно, с точки зрения выгоды, а если ее, выгоды, не было, то воспринимал их как самодвигающихся, источающих разные нелепые звуки, кукол. Женщин, которыми раньше непраздно интересовался, терпеть уже не мог, поскольку все проблемы – прорвы, стервы, суки, потребительницы! – были от них, и вообще он мало, что или кого, любил, так мне, по крайней мере, показалось.
Все это я понимаю и совсем его не сужу, ибо семья, тонны ответственности, непрестанные лохматые заботы, пресловутое – чтобы все как у всех! – липкое соответствие, надо было растить и поднимать детей, в общем, делать все то, от чего так эгоистично отворачиваются разные там маньяки-кроты-спелеологи-диггеры и, конечно, писатели, и что выхолащивало его шаг за шагом. Вскоре выяснилось, что говорить нам с ним абсолютно не о чем, в его неожиданных пугающих гримасах я ощущал тщательно скрываемую зевоту, и глядел он на меня такими рыбьими бесцветными глазами, как на какого-то романтического гада, придурка, идиота, который только раздражал его разговорами о вещах отвлеченных.
И поддерживая с ним уже ради приличия разговор ни о чем, поскольку за праздничным столом мы сидели с ним рядом, я вдруг вспомнил одну детскую игру, которую мы называли игрой в холмы. Помните? Дети прячутся под одеяло, и, нервно хихикая, в нетерпении, в предвкушении, ждут, получалось, холмами, жертву свою… И вот в комнату входит человек, а лучше бабушка, она усаживается в кресло, ничего необычного окрест себя не замечая, включает телевизор, любимую программу, вся уже там, за экраном, увлечена-вовлечена, даже причмокивает от удовольствия губами, и вдруг несносные бешеные дети, с криками, выскакивают из-под покрывал, и несчастная старушка – чуть ли не в обмороке. Или опять же игра, в доме играют в прятки, дети разбегаются в разные стороны, кто-то прячется под одеялом, его ищут, никак не могут найти, а тот, знай себе, хозяином положения, трясется от смеха.
А теперь я заявляю со всей ответственностью, что взрослые это тоже холмы, но уже под тяжелыми покрывалами общественных правил, запретов, приличий, стереотипов, моделей поведения, всеобщего презрения, под которыми они прячут свои так и неразрешенные детские комплексы, свои затаенные мечты и желания, томления, свои крики и стоны, рыдания и всхлипывания, свое горе и счастье, наконец, и если вдруг кто-то не выдержит и сорвется, ни дай Бог, выскочит из-под общественного одеяла, то есть, считай, соответствия, то его тут же под руки, как жертву положения, под домашний суд, а если дальше бунт, то дело может дойти до самой психушки. Или, как писал Поэт:
Холмы – это наши страдания.
Холмы – это наша любовь.
Холмы – это крик, рыданье,
Уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
все это – в их кустах.
Иначе говоря, сколько раз я выслушивал от знакомых, друзей и приятелей пьяные, или не очень, откровения типа: «я хотел быть всю жизнь тем-то, и не вышло!», «я любил всегда эту женщину, и не судьба!», «я хотел уехать туда-то, и что же мне помешало?». И много, много подобных «я хотел бы»… Да и увы!
Обо всем, об этом, я думал тогда, сидя за праздничным юбилейным столом, за которым поневоле, оглядывая всех, поднимая бокалы, подводишь итоги, то есть, я думал о холмах – томления и смирения. И если бы меня спросили люди несведущие, тот же мой приятель, например, о чем ты все-таки пишешь, и ради чего, то я бы – тут два вопроса! – ответил, что, во-первых, пишу я именно об этом, о не свершившемся, которое все-таки должно однажды свершиться, – а иначе, зачем жить? – причем свершиться под покровом небес, а не под каким-то там свинцовым общественным одеялом, и, значит, следует, – ты считаешь, следует? – да, именно следует взорвать эти холмы, высвободить их томление, которое, наконец, поведет тебя, его, всех нас, страждущих, вслед за своим именным, личностным «Ты» – причем поведет, да что там… понесет, потащит тебя, как за своей мечтой, будь то любимый человек, любимое дело, какая-то счастливая возможность, все, что угодно, по чему ты так долго томился, – ведь, обретая свое сокровенное «Ты», человек обретает свое «Я», не общественное, не навязанное, не внушенное, а именно подлинное, глубокое, нутряное, исконное, и, стало быть, «иду за тобой» означает «иду за собой», вот где момент истины, и – никак иначе!
Так бы я ответил всем и ему, что-то поняв в своем, однажды и наконец, обретенном, движении. А что касается второго вопроса, ради чего, то я бы просто ответил, ради нас, и если с нами, пяти иль шестидесятилетними, что-либо делать уже поздно, – увы-увы, хотя не поздно ведь никогда, то, значит, ради будущих поколений, они еще смогут и успеют, дети наши, например, я уверен, все у них получится, – в общем, ради того, чтобы эти холмы наших страданий и надежд, твоих, моих, их, не превратились… – может, за это и выпьем, друзья? – в могильные холмы забвения.

3192 раз
показано1
комментарий