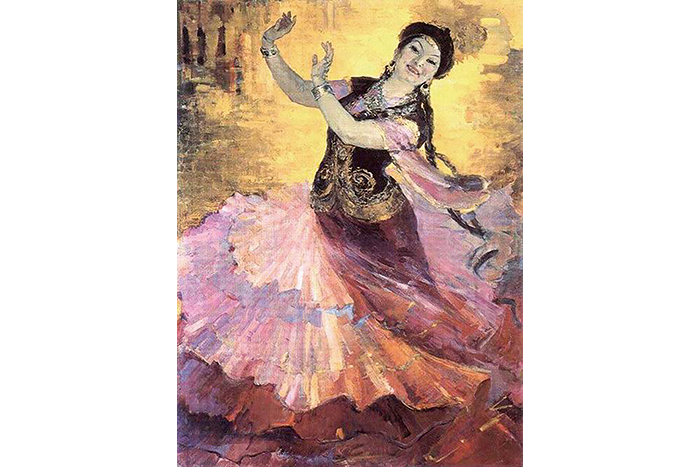- Культура
- 17 Ноября, 2014
По следам «Белой аруаны» Сатимжана Санбаева

Людмила ЕНИСЕЕВА-ВАРШАВСКАЯ
Сатимжан САНБАЕВ (1939–2013) – писатель, публицист, переводчик, киноактер. Выпускник Оренбургского сельскохозяйственного института, инженер. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве.
Трудовую биографию начал главным инженером совхоза им. Энгельса Кызыл-Кугинского района Атырауской области. Работал инженером-конструктором Павлодарского тракторного, а затем Балхашского горно-металлургического заводов. С конца 60-х годов началась его литературная деятельность. Возглавлял редакцию переводной литературы издательства «Жазушы», отдел взаимосвязей литератур Союза писателей Казахстана, был главным редактором Национальной компании «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Автор десятка книг, изданных в тридцати странах мира. По его сценариям сняты художественные фильмы «Там, где горы белые» («Белая аруана»), «Дом у Соленого озера», а также документальные ленты. По случаю его 65-летия он любезно согласился дать интервью.
– Когда мне было двадцать лет, – начал свой рассказ Сатимжан, – я был чемпионом Оренбургской области по классической (теперь ее называют греко-римской) и по вольной борьбе. То есть по двум видам. Мечтал об этом с девятого класса. Меня мальчишки наши побили из-за девчонки, в которую я влюбился, и я решил – стану чемпионом по борьбе! И стал. Будучи тренером областной команды, я был также капитаном сборной Дальнего Востока, Урала и Сибири по классической борьбе. Было это во время моей учебы в Оренбургском сельхозинституте, куда я поступил в 1956 году. Тогда как раз началась целина, и я, окончив десять классов, хотел уехать на нее с первым эшелоном добровольцев. Но поступил в институт. И хотя меня – отличника учебы, мастера спорта – настоятельно уговаривали перевестись в Куйбышевский авиационный – наступила ведь эра космоса, я остался в рядах сельхозников.
Все бы хорошо, но в 64-м году, будучи призван на чемпионат Советского Союза среди сельских борцов, я по пути в Москву угодил в аварию, и меня привезли в Болшево к лауреату Ленинской премии – фтизиатру Богушу. Оказывается, у меня было порвано легкое, но на морозе кровь застыла, легкое почернело, и я остался жив. «Ну что ж, – сказал он, осмотрев меня, – береженого Бог бережет!». И как сторонник радикальных операционных мер говорит мне: «Знаешь, во время ленинградской блокады первыми умирали ученые и спортсмены, которые всю жизнь живут по режиму. Нарушение режима при голоде оборачивалось катастрофой. В наше время эта напасть тебе не грозит. Я считаю, что часть поврежденного легкого надо вырезать. Ты, я уверен, с этим справишься, силы у тебя для этого есть». «Хорошо, – говорю, – я согласен!». И вот меня везут на каталке, потом делают укол толстым шприцом. И последнее, что я помню, так это сокрушенное: «Вот что значит казах – мясо ел, шприц не проходит, как надо!». Потом пришел в себя, и ничего. Проходит день, затем второй и, наконец, наступает день девятый, когда по поверью всех народов душа начинает отлетать. И вот лежу я как есть обнаженный, насос выкачивает ненужную в месте разреза тела жидкость, капельница стоит с глюкозой, а за окном… За окном – птицы, у них любовные игры! Несколько самцов с самочкой играют, и у меня от этого тоже внутри все взыграло, детородный орган возбудился, и жизнь стала возвращаться ко мне. Сестрички увидели это, бросились целовать меня. «Жить, – говорят, – будешь!». Тут же они это дело отпраздновали и даже коньяк мне поднесли. Правда, года два еще я лежал в гипсе – позвоночник был поврежден.
– Это сколько лет тебе было?
– 24 года.
– Вспоминал, наверное, свои школьные времена?
– Конечно, я ведь, начиная с седьмого класса, учился в Оренбурге, и когда в 56-м году заканчивал десятый класс, то окончательно решил – домой в Макат не поеду. Поскольку мне светит Золотая медаль, буду поступать в вуз! Я ведь четверок вообще не получал, начиная с шестого класса, и все были уверены, что я буду медалистом. Сочинение я взял на вольную тему – про Движение Сопротивления и девушку, которая легла с боеприпасами на рельсы под немецкий поезд, который шел на Марсель. Она легла, но поезд остановился, почти коснувшись колесами ее шеи, и в это мгновение перед ней промелькнула вся жизнь. Я подумал, как это в одно мгновение может уместиться вся жизнь? Это ведь алогичность какая-то! Решив, что тот¸ кто писал об этом, ошибся словом, заменил «мгновение» на «многовение», и мне влепили четверку. Я, как ты понимаешь, емкое слово это придумал сознательно, а мне засчитали его как грамматическую ошибку. Воспринято это было как гром с ясного неба. Все были оскорблены: как, Сатимжану четверку! Да еще по русскому языку и литературе! А моя преподавательница – выпускница МГУ Любовь Ивановна Мишина, которая со мной все шутила: «Ну, Сатимжан, отчего ты глотаешь все время мягкий знак?», «Оттого, – отвечал я, – и глотаю, что он мягкий»…
– И что она?
– О, ты даже не представляешь! Прихожу я в школу через два дня после всего, что случилось, и вижу – она сидит одна в классе и плачет! Да-да! Ей 24 года исполнилось, это ее первый выпуск, и вот такое! Я ее начинаю успокаивать, даже пошутить пытаюсь, а она еще пуще от обиды плачет. «Ну что ж, – говорю я, – тогда поедем в Гурьев – в областной центр!». Поехали в облОНО – там все вроде поняли, но Золотую медаль мне не дали, а выдали Серебряную. Любовь Ивановна с досады уволившись, уехала домой, и мечта ее увезти меня в московский вуз не осуществилась.
А потом начался подъем целины, целинный бум. Стали собирать молодых ребят для поступления в сельхозвуз. Экзаменов не было, просто с нами побеседовали и – в Оренбургский сельскохозяйственный институт. А там вызвали и в поле – километров за пятьсот в Адамовский район Кустанайской области на агрономическую станцию. Были мы там до зимы. Никакой учебы! А рядом совхоз – две-три деревеньки. Людей нет, масса техники. Люди там – переселенцы со времен Столыпина. И с ними подружились – они на казахском, мы на русском говорили. И вот этот совхоз на нас висел года три. Мы приезжали туда весной – сеяли, ставили технику, смазывали, потом осенью убирали хлеб, сдавали его. Никаких тебе каникул, мы в палатках, иногда снег лежит уже, завшивели. Никакой бани, никакой еды. В неделю раз хлеб привезут несколько мешков, а у меня солдаты еще были – вот и живем. А в начале декабря снег выпадает – солому стелем в палатках. Тут нам послабление дают, назад в Оренбург отправляют. Едем в свою альма матер, начинаем с декабря учиться, тогда как все учатся с сентября. А весной мы снова собираемся на целину. И так три года. Ну, а потом мы уже не ездили – людей из разных городов стали туда привозить.
– Ты родом из Маката. Чем интересно было твое детство?
– Рос я в русско-казахской среде. Поселок наш Макат, что в Западном Казахстане, был несколько странным. В него с 1935 года доставляли ссыльных – кадеты, эсеры, люди других партий. Они прибывали с библиотеками, какими-то непонятными приборами, домашними собаками. Вся русская интеллигенция. Огромные библиотеки. И вот мы читали «Ниву» и другие журналы, предлагаемые ими книги из своих собраний. Дни и ночи читали. Моя бабушка боялась, что я свихнусь. Бальзак – 90 томов, все книги мировой литературы, где было много того, что сейчас не найдешь. Классика, география. Несколько книг у меня еще осталось. Дело в том, что в 37-38-м годах, когда пошли репрессии, стали по домам собирать эти книги, чтобы сжечь их. А сжигать заставляли казаха-старика, но он делал нору в земле, выкладывал ее камнем или кирпичом и помещал туда сколько мог книг – из того, что ему нравилось визуально, сам-то он был необразованный. Замуровывал потом все это глиной и, когда выпадал безопасный момент, выкапывал. Люди разбирали у него эти книги за муку, керосин или еще за что-то необходимое. Он и еще один старик занимались этим делом, но они были не наши – переселенцы. А папа мой был тогда у власти, и они, абсолютно доверяя, приносили ему что, на их взгляд, поинтересней. Вот так и получилось, что какие-то из этих, в общем-то, раритетных книг у меня до сих пор живут. Например, изданная в 1909 году в Париже книга Вернадского «Опыт истории Евразии», начиная с VI-го века до наших дней. Я до сих пор берегу ее как зеницу ока. Или «Культура ислама» – как выжимки, так и вся серия, что выходила под редакцией Луначарского. Теперь уже редчайшие экземпляры 1918 года, выпущенные издательством «Седьмая рота» (было такое!). Оказывается, в том самом 1918-м году советская власть поняла, что без Казахстана и Средней Азии она не удержится – нужны кони для армии, мясо, хлопок. И тогда решили издавать это и посылать сюда. Идеологические дела! И еще у меня – пластинка с речью Ленина сохранилась – обращение к порабощенным народам Востока.
– Отец твой был, как известно, учителем.
– Да, макатская «школа Хамзы» стала своего рода символом образованности, достоинства и служения интересам Родины. Из нее вышли известные государственные и общественные деятели, выдающиеся нефтяники, ученые, восемь членов Союза писателей СССР и Казахстана, врачи, учителя. Детей у мамы с папой было семеро, а внуков – больше сорока. Но это все было потом. А сначала папа закончил второклассное русско-киргизское училище (школа) в ста километрах от Маката. То было местечко Карабол между Уральской, Актауской и Гурьевской областями. Оно было каким-то особым – в нем в свое время собирали свои войска Сырым-батыр и Махамбет. И что интересно, там здания строили из красного кирпича – типовые. Вот в них-то отец и прошел сначала первоклассное училище – это сегодня четыре класса, а затем второклассное – это семь классов. После этого он стал учителем.
– Говорят, он был высокограмотным человеком.
– Но это неудивительно. Там ведь как? Не выучил задание, тебе вешали на спину бирку, и ты оставался без обеда. Тогда в школах было очень строгое воспитание. Да и обстановка того времени была далеко не простой. С одной стороны – долго добивавшиеся возрождения казахской государственности алаш-ординцы и наконец-то провозгласившие свою Алашскую автономию со своим правительством, своей армией и своей милицией. С другой – для борьбы с красными стали объединяться белоказаки. С третьей – Василий Иванович Чапаев, который был легендарен настолько, что девять человек называли себя его именем. Представляешь – девять Чапаевых! И вдобавок ко всему этому едет сюда, в эти края, Сергей Миронович Киров и встречается с Чапаевым. Оказывается, советской власти нужна нефть. А Макат – это местные нефтепромыслы. Вообще-то, Макат, Кошкар – это имена моих предков рода черкеш. Самый старший в жузе – Байулы из двенадцати родов. Он имел вес. И папа мой там повстанцами командовал. Они, бедняки, не хотят в Красную Армию, но он их сколотил. Потом приехал такой Бейсенов из Оренбурга – коммунист, стал агитировать бедняков за революцию. А в то время была идея такая – свобода, равенство, братство! И все поднялись, все власть поддержали. А папа стал учителем. Однако казахи были против русского обучения. Школу его сожгли, и хотя офицеры говорили, что это сделали баи, но жгли сами аульчане. Не хотели, чтобы Хамза Санбаев учил детей на европейский манер. При пожаре сгорел сын отца.
– Это который же год?
– 1929-й. И папе поручили в составе комиссии определить границы Гурьевской и Актюбинской областей. Занимался он также и конфискацией имущества. В те поры очень рискованное для жизни дело, но смотря как его проводить! У него был тарантас, два милиционера и возничий. Списки заранее были определены аулсоветами и Казсельсоветами. Юрта, красный флаг, списки. Папа останавливался километрах в пяти-шести от селения и посылал в аул кого-то заранее – как-никак, а там едва ли не все приходились ему родственниками. Узнав, что это едет он, его встречали джигиты, и он давал задание – пусть бедняки разбирают по дворам скот. Голод же везде начался. Таким образом можно скот в селениях сохранить. И вот джигиты приходят, народ собирается, бай, который и так всегда кормил людей, раздает – кому сколько, он знает – голов. Потом приезжает папа – все в порядке, народ поддержал Советскую власть, никто не против, скот роздан. Правда, баев переселяли, а тех из них, что сопротивлялись, тех в Сибирь уже – в Красноярск, в Кузбасс. Вот так папа поступал в то несусветное время, старался выручить всех, мягко сглаживал все острые углы политики. Он был свободен и образован, делал все интеллигентно, цивилизованно. И все слушали, что он скажет – как баи, так и бедняки. Советская власть, мне кажется, тоже знала об этом. Помню – мне было лет десять-одиннадцать, и он рассказывал кому-то: зима, школа, питания нет, дров нет. Детей тоже мало – казахи же зимой кочуют. «У меня, – говорит он, – всего восемь детишек, но их же надо кормить! И я написал на русском языке – это еще до конфискации в 24-25-м годах: «Настоятельно рекомендую привезти для питания учащихся 4 бараньих тушки и 2 воза топлива». И привезли». Ну, вот так – привезли и привезли! А о том, как именно это происходило, я узнал лишь в 1956 году со слов гостивших у нас четырех стариков. Вышедшие из лагерей, они были из тех самых непокорных баев, которых тогда ссылали. Руки мосластые, как у заезженных лошадей. И вот всю ночь они с папой все что-то вспоминают и вспоминают. «Помнишь, Хамза, – говорит один, – как ты написал письмо про эти четыре тушки и про топливо, и мы долго думали, помочь тебе отвезти его или нет? Но написал ты это не по-нашему, и мы пригласили толмача. А там, в письме, было одно слово – «настоятельно», и толмач, не зная, как его перевести, сказал, что это «добровольно». Ну, решили мы, если советская власть рекомендует выполнить просьбу на добровольной основе, то можно письмо и не везти. Так-то оно так, но все-таки слово-то там какое-то другое! И мы подумали, что если Хамза рекомендует, то даже если это настоятельно (мы не знали значения этого слова), то давай все-таки отвезем и поможем. От греха подальше. И когда мы прошли уже ссылку, лагеря, мы поняли, что сделали все правильно. Но если бы ты не написал слово «настоятельно», нам бы там никаких бараньих тушек и никакого топлива не отпустили бы».
– Видать, интуиция у этих стариков сработала?
– Ну да, тогда малейшая ошибка или непредусмотрительность могли стоить жизни. На этот счет у меня в памяти другая история. Дело было в те же двадцатые годы, когда папа, как он потом рассказывал, отправился в Копжасар, где должен был состояться суд над баями. Но там, в областном управлении, не было ни одного русского, и он, владеющий русским языком, должен был выступать защитником. А в составе военного трибунала был Бахытжан Каратаев. Член ЦК эсеров, депутат 4-й Государственной Думы, выпускник юридического факультета Казанского университета, он учился вместе с Лениным и Керенским. Ленина, как известно, исключили, а Каратаев был удостоен Золотой медали, после чего получил должность военного прокурора на Кавказе. Это был знаменитый юрист – наряду с Кони и Плевако. Так вот, когда там, в Копжасаре, этих баев судили, вспоминал папа, защитная речь его длилась восемь часов. И хотя решение суда было не в пользу баев, они по закону имели право подать кассационную жалобу и ждать возможного изменения приговора. Однако условие это в местных судах во внимание не принималось. Осужденных расстреливали в течение суток как контрреволюционеров с тем, чтобы они не успели подать эту самую жалобу. Бахытжан же Каратаев был в то время членом ЦИК, обладателем мандата № 9 за подписью Ленина. Узнав про такой, здесь принятый порядок, он встал и сказал: «Здесь совершенно неприемлемое нарушение элементарной нормы юриспруденции. В целях установления законного порядка я еду к Сталину». Спорить, возражать никто не посмел. Бахытжана здесь знали, уважительно называли «Карасакал». Расправу над осужденными пришлось отложить – железной дороги нет, до Саратова надо на тарантасе – ему он был положен, а там на поезд. Так что целый месяц надо было добираться. Но он добрался, вернулся, жизнь осужденных была сохранена, последовала отправка их в лагеря. Понимая недогляд в здешнем судопроизводстве, высшие инстанции позаботились о введении в состав трибунала владеющих русским языком юристов. А папе Бахытжан Каратаев сказал так: «Я – член ЦИК, а ты кто? Учитель – это хорошо. Так вот бери мой тарантас, заезжай домой, возьми жену, самовар, еду и уезжай к нефтяникам – там затеряешься. Уж больно основательно ты защищал этих бедняг байского происхождения. Кому-то это может очень не понравиться». А сам взял коней и поехал в Оренбург. Папа приехал домой, а здесь школу сожгли, и сын его в ней сгорел. Сожгли, видимо, в знак протеста против такого незаконного суда над баями. Он забрал жену – она была беременна, и поехал к нефтяникам. Там добился жилья – хибара. Открыл новую школу, стал учить, жена родила дочь, он поехал за учебниками. Приезжает – опять сожгли школу. И колыбель с дочерью сгорела. Камышитовый дом был. Жена после этого слегла и от горя умерла. Папа долго не был женат, стал директором школы, уже известный, был одно время председателем поссовета, парторгом, мировым судьей. А в 35-м году его женили на маме. Через год родилась у них дочь Алиса – моя старшая сестра, потом был я. А всего нас у нее было восьмеро. Но после войны опять был пожар – лампа с бензином опрокинулась, и одна из сестер погибла. Сильно обгорела, а потом умерла.
– Боже, сколько же несчастий выпало на долю вашего отца! Какую сильную натуру надо было иметь, чтобы вынести все это!
– Выручало, конечно, то, что вокруг всегда были хорошие, все понимающие люди. Ну, во-первых, у него учились все нефтяники, и все были признательны ему за то, что он вкладывал в них необходимые для каждого человека знания, добрые нравственные начала и жизненные подходы. В доме же у нас всегда жили какие-то люди, особенно во время голода, и всех их, как могли, подкармливали. А с начала войны папа стал спасать переселенцев из Поволжья – чеченцев, немцев, болгар, греков, представителей других народов. Их вывозили в вагонзаках и просто сваливали в степи. Так однажды он привел домой семейную пару – Савелия Ильича Бобовича и Елену Соломоновну Коган. Ну, заночевали они у нас, а потом куда? И он взял их в школу, благодаря чему они стали моими учителями – стали со мной заниматься. Потом им выделили комнату. Затем он привел еще одну семью – Рудольфа Адамовича Семирук и его жену Эмму Фридриховну. Они были из Феодосии – караимы. Оба вконец расстроенные, в постоянном беспокойстве. Оказывается, их двоих детей забрали отдельно от них, и те оказались в наших краях. Но Рудольф Адамович и Эмма Фридриховна о встрече с ними даже и не помышляли: «Навредим детям!». Отец также принял их в школу. Меня они тоже учили, отдельно со мной занимались. Голодные, они не притрагивались к еде, а мама все заставляла их есть. Бывало: «Ешьте, ешьте». «Да что вы, у вас дети!». «Нет, ешьте!». И мы уходили на время в другую комнату или на улицу, чтобы они спокойно поели.
И тогда же, во время войны появилась в поселке женщина Марфа. Лежит где-то на входе в селение, силы ее оставляют. Мы говорим: «Там кто-то немощный лежит». Бегут за водой, приводят в порядок – Марфа. Оказывается, деревню ее сожгли, и она из-под Тулы или Рязани добрела до нас. Деревенская женщина. И вот она стала жить у нас. Где-то подметет, что-то постирает. Отец говорит: «Нельзя вам это делать – скажут, я прислугу держу». И тогда она стала ночью подметать. Все чисто все аккуратно, и все равно папа говорит: «Нельзя, люди судачат!». А рядом пристройка у нас была. Печь в нее поставили, и папа говорит: «Марфа, дорогая вы наша, теперь здесь вы будете жить!». А она, нет бы обрадоваться, горько-прегорько заплакала: «Не угодила, – причитает, – ну никак не угодила я вам!». До сих пор у меня осталось это жалобное «Не угодила!». У нее своя, глубоко крестьянская психология. К тому же выяснилось, что документов у нее нет, впопыхах не до этого было, и потому по именам отца с матерью надо сделать ей какую-то справку. Узаконить ее. И тогда, в 43-м году, папа написал в ее село. Но, там, оказалось, ничего не осталось – одни груды развала да следы от пожарищ. Немцы все сожгли. Бои же шли. А в 44-м году, когда немцы ушли, и из ее сельсовета ответили – да, такая-то жила. Но забирали тогда людей на два года в трудармию. Всех забирали на восстановление Сталинграда. Попасть же туда было все равно, что на погибель. Голодные люди, надолго ли! И папа в сельсовете сделал ей удостоверяющий ее личность документ, иначе она угодила бы в трудармию. Тогда забирали ведь всех беспаспортных, опоздавших на работу. На одну минуту опоздал, все – судят, и в трудармию. Как только десять человек набирается, за ними приезжают и отправляют. А многие не возвращались оттуда. Казахи – языка не знали, ничего не знали, неграмотные. А там заводы надо восстанавливать, дома. Двенадцатичасовые работы. Люди больные – на износ.
Потом во время войны пригоняли к нам из оккупированных районов Белоруссии и Украины скот. Раздавали по домам. Его, конечно, весь поели. А потом этих людей собрали: «Тебе скот давали?» – «Давали» – «Так вот осенью должен быть такой-то приплод». Но откуда его взять? И их туда же, в ту же трудармию гнали в сопровождении конвоиров – «Чтобы разбоя не было!». А обратно как наши приедут? Многие после войны там и остались. Выживали как могли, семьями обзаводились. У кого-то даже по трое детей было.
Еще у нас дома во время войны все время дети другие жили. Например, Салават Мукашев – он потом председателем Президиума нашего Верховного Совета был, Берхаир Аманшин – писатель будущий, чей отец был помощником военного прокурора Астраханской губернии – так называемый «товарищ губернский прокурор». Родителей этих ребят то и дело с места на место переселяли. Года на два-три приземлятся они где-то, потом опять в новый пункт назначения. Ну, а дети их у нас дома жили, и мы – папы-мамино потомство, чувствуя себя как бы в ответе за них, во всем уступали им, помогали и даже за обеденный стол садились после них. Для папы же главное было – учить нас всех.
– Да, время было сложное, беспокойное!
– И хотя наша жизнь проходила в тылу, она не была от этого менее жестокой.
– То есть?
– Ну, скажем так. Во время войны в старших классах училось по семнадцать-восемнадцать человек. Каждому давали щенка – овчарку, и ее нужно было воспитать. Кормили собак сусликами, которых мы добывали в степи, заливая их норы водой. За каждую овчарку давали два килограмма сахара и два куска хозяйственного мыла. А месяцев через восемь-десять щенков забирали, и они шли с гранатами под танки. Правда, наш воспитанник по кличке Тарлан убежал из военной части домой. Он был добрый. Мы, конечно, обрадовались. Тогда же прямо в нашем поселке был лагерь, где держали литовских женщин – они строили узкоколейку от Маката до нынешнего Тенгиза. Высокие, красивые графини, баронессы. Около тысячи этих женщин вывезли сюда к нам после присоединения Прибалтики к Советскому Союзу. И мы их кормили.
– Каким образом?
– Представляешь – проволока, комендатура, вышки. Взрослым подходить нельзя, а нам, детям, со всех домов дают еду. Мы набиваем карманы и через проволоку кидаем этим заключенным женщинам. У каждого пацана своя подопечная была. У меня – Ивонна. Красивая. Графиня. Училась на четвертом курсе института, забрали, потому что она графского сословия. Они по пять-шесть языков знали. Умирали они. Однажды я пришел, а родители сзади, вдалеке идут – беспокоятся за нас. Но в нас, детей, не стреляют. Вверх выстрелят, и мы врассыпную! Потом кидаем им еду. И вот однажды ее нет. На второй день тоже нет. На третий день вышла – в синяках. Оказывается, изнасиловали ее. Ей смотреть на меня стыдно. И нашего Тарлана забрали туда, в лагерь – охранять женщин. Там собаки были – забежишь, она рвет тебя, а Тарлан, наоборот, ласкается. Я говорю – пристрелят, наверное. Папа говорит – нет, комендант Кульпеков дал команду не трогать нашу собаку. Вот охранники матерились– он женщин от них защищал! Один был особенно злой, лютый охранник, Тарлан терпеть его не мог, и тот Тарлана боялся. Косились друг на друга. А Кульпеков интересный был. Его дочь Галя со мной училась. Жена русская была. Он, детдомовец, в душе жалел, видимо, этих женщин. В органы же брали жестких и жестоких.
– Да, идеология идеологией, а человеческое начало само по себе.
– И вот он, Кульпеков, когда Берию расстреляли в 55-м году, застрелился от позора, от стыда, что служил такому человеку. И в ту же ночь семья – жена и дочь исчезли. Их увезли куда-то. Вообще, здесь многие во время войны были – Лариса Черная, например, отец которой был, как говорили, командиром партизанского отряда. Люди разных национальностей. И папа тогда был директором школы – и русской, и казахской. Я четыре начальных класса ходил в обе, потом стало тяжело, и я остался только в русской – «А то, – папа сказал, – не осилишь». Помню, однажды была страшная зима, холодно, в школьном здании невозможно учиться – кругом сосульки, сплошные сквозняки, и нам баню выделили – неделю там, в ней учиться. Учительница наша Ольга Петровна меня на спине тащит, снег оббивает на своих дырявых сапогах. Я говорю: «Я сам пойду!». «Нет, – отвечает, – ноги простудишь». Так заботились вокруг все – считали, что из меня что-то выйдет. И эти мои четверо домашних учителей… У меня каникул не было. Две недели дадут побегать, а потом: «Садись!». Со мной занимались. Им выезжать нельзя было – требовалось разрешение комендатуры и почти каждый день отмечаться. Потом через неделю уже знали, что это папины подопечные, – можно доверять им и не беспокоиться. Не строжились. Или разрешали ездить только ударникам. А так – если кто-то что натворит или сворует, Кульпеков берет чеченцев, ведет на кладбище, ставит на колени, пистолет вынимает, и те признаются – да, это мы. Хотя совсем и не они. А ему надо отыскать виновных, иначе его расстреляют. Он их отпускает, они приходят к своим, там аксакалы их принимают решение (у чеченцев все решают старики) – выделяют двоих, те являются с «повинной»: «Это мы сделали». Их судят и отправляют в Сибирь, хотя, может, они и не виноваты. А какие преступления? Обуви же нет, а чеченцы вырезают в мастерской из шкуры части для подошвы, и вот ищут, кто это сделал. Или – там спирт привозили для протирки деталей механизмов и машин – бельгийский, немецкий. Спирт пьют. Чтобы обнаружить – кто, стали добавлять в него чернила. У кого губы в черном – все, на два года загремел в трудармию.
Вот так жили, и все говорили как на русском, так и на казахском. Все в лагере знали, что происходит в поселке, как и поселок знал все про лагерников. Знают также, где появились дезертиры. По степи идут, в основном таджики и узбеки – по два-четыре-пять человек группируются и идут. Они хлеборобы, хлопок растили, урожай собирали, война им непонятна. А учителя – по пять-шесть человек – каждые десять дней должны были выходить и ловить их. А ловить их и не надо было – они бредут еле-еле, сил нет, голодные. Для поимки их были учебные ружья, которые не стреляли. И вот выходят с папой эти пять-шесть человек, а те сразу на колени и начинают молиться. Могут молиться час-два-три, а мы стоим и ждем. И когда человек десять сдавшихся накапливается, везут в сельсовет и там запирают. Потом за ними приезжают – для них специальная машина ходила. Дезертиры эти шли потоками, и никаких заградотрядов для них не было. К 45-му году было еще также около ста немецких военнопленных. Я фильм об этом делал, об этих лагерях – «Дом у Соленого озера» называется. Кормить этих людей стало нечем, и их мало их осталось.
– В фильме все там сделано документально, точно?
– Да, но, конечно, с некоторым художественным вымыслом. Так вот, нечем кормить стало, папа куда-то что-то писал. И ему помогал секретарь райкома – он пришел с войны раненым, Утеп Балгымбаев – друга моего Нурлана отец. И они вдвоем в Москву много писали. Их ругали – из обкома приезжали. «Мы, – говорили, – из-за вас в тюрьму все пойдем, что вы делаете?». Но как-никак, а хотя бы передовиков, дисциплинированных женщин разрешили все-таки разобрать по домам. Чтобы они у казахов жили. Добились – чтобы к тем, у кого детей нет. Разрешили брать одну только женщину, которая хорошо работает, и за которой нет грехов. Ну, Ивонну, конечно, к нам. А потом родители решили чуть по-другому. У нас был сосед, одной ноги у него не было, протез, начиная с колена. И ее определили к нему, чтобы она помогала ему – инвалид как-никак.
– Забирали в дом насовсем?
– Нет. Вечером часов в восемь в комендатуре надо было расписаться, что такая-то семья берет ее домой, а в шесть утра привести и расписаться, что сдает. День-то эти женщины должны были жить и работать по лагерному расписанию. Но пусть хоть небольшая часть суток, а все-таки домашняя жизнь. Никто не пристает, не грубит и не бьет. Они стали лучше выглядеть. Да и мужчины, что без жен, поухоженней стали – на одежде их вместо дырок заплатки появились. А когда война подходила к концу, папе велено было составить на них характеристики. Он, конечно, писал про них все хорошее, и обладательницы положительных оценок получили освобождение. Те же женщины, что отважились на материнство, были осуждены за недостойное поведение.
– А как остальные обитательницы лагеря?
– Остальных в одну из ночей погрузили на машины и куда-то увезли. Но спасибо, что хотя бы разобранных по домам не тронули. И Ивонна наша тоже осталась с соседом, вышла за него замуж и на родину даже не поехала. Родила детей. Там же, в нашем поселке похоронена. Дочь ее Илона жива, после ухода из жизни родителей она уехала в Литву. Об этом тоже в фильме «Дом у Соленого озера».
Ну, а для папы самым главным было учить, учить и еще раз учить! И это, надо отдать должное, было по достоинству оценено. В 48-м году вышел Указ о присвоении ему звания «Заслуженный учитель Казахстана». Он был первым, кто получил его в республике. Затем в 49-м был орден Трудового Красного Знамени, в 50-м – орден Ленина, в 53-м – орден в честь 30-летия Республики Казахстан. Из папиной школы вышел добрый десяток членов Союза писателей – Мереке Кулькенов, Берхаир Аманшин, Зейнолла Кабдолов, Габдол Сланов и другие. В 1969-м году ему оформили пенсию. Проработав сорок лет в школе, он был уже недоволен, как учат. Прожил девяносто лет. Мама столько же без двух месяцев. У нас в роду все по столько лет жили.
– Но мы начали с тобой разговор с аварии, в которую ты попал.
– Да. Авария эта была уже после Оренбургского сельхозинститута, учась в котором, я с большим усердием, как уже говорил, занимался борьбой. Замечательное было время – очень дружная, готовая на любые деловые свершения студенческая семья, прекрасные педагоги, среди которых особенно симпатичны были мне два сосланных из Ленинграда профессора. Они Санкт-Петербургский университет еще кончали. Это была настоящая русская интеллигенция. И вот эти почтенные старики приходили смотреть, когда я боролся. А один из них – профессор Чубинский, который был математиком, во время лекций прохаживаясь по рядам – у него такая, только ему присущая походка была и особая манера говорить, – всегда подходил ко мне и без слов забирал листки бумаги, на которых я, как правило, что-то писал.
– А что писал?
– А-а, литературные этюдики такие! Поступки людей, манеры. Я любил это делать, и он это брал и складывал, оказывается, в папку. Я не знал, что он это собирает. Я тогда много читал, фолианты целые осиливал, и он приглашал меня иногда к себе домой. В Санкт-Петербурге у него осталась его дворянская семья, и он вместе со своим коллегой учил меня, как вилку брать, к какому блюду какая полагается наливка, что подают к чаю, – этикет придворный такой. А библиотека – о-о! О такой я и мечтать не мог! Ты, говорят, почитай Сафо. Выдающаяся поэтесса. Возьми стихи ее, почитай. Вот античная литература, вот французская. И я читал, читал французов, древних греков, римских авторов, послесловия читал.
– Но такое же общение далеко не каждому юноше выпадает!
– Я до сих пор благодарю за это судьбу. Это в значительной степени сцементировало мне так пригодившийся в последующей жизни фундамент для моей литературной деятельности. Но жизнь шла своим чередом. И вот однажды, когда дело пошло к пятому курсу, один из отцовских учеников Салават Мукашев, который был в то время первым секретарем нашего макатского обкома, попросил в телеграмме, чтобы я после окончания учебы ехал работать в родные места. А поскольку первые секретари обкомов обычно знают друг друга, общаются, совместно решают какие-то важные вопросы и исполняют просьбы друг друга, то меня пригласил к себе наш здешний секретарь обкома Воронов. Я пришел и смотрю, в кабинете у него сидит командующий Уральским военным округом – генерал-лейтенант Крейзер. «Слушай, – говорит он мне, – ты никуда не уезжай. Ты ведь знаешь, как военное дело у тебя идет, у тебя талант. На восемь вопросов во время экзамена ты ответил как настоящий военный специалист. Давай иди ко мне в армию! Даю слово, – через три года ты будешь в Военной академии Генштаба учиться. Я отвечаю за это». На что ему присутствовавший при этом мой учитель математики профессор Чубинский: «Предложение это замечательное, но он же специальность свою загубит!». «Так ведь он будет военным инженером! Что еще может быть выше и почетнее?». А тот: «Нет, у него направление другое – он умеет писать!». «Где, покажите!». И Чубинский вытащил папку с моими заметками. А Воронов, не обращая внимание ни на какие листочки с моими почеркушками: «Ты никуда не уедешь, будешь здесь. На три области у нас всего три казаха-героя Соцтруда, и все чабаны. Ты понял, о чем я говорю?». То есть он мне говорит о карьере. А меня это не колышет. «Ты, именно ты колхоз имени Пугачева поднимешь! – не столько убеждает, сколько умоляет он. – Ты, конечно, понимаешь – если я предлагаю, что это значит? Тебе не придется думать о запчастях, выпрашивать технику, деньги. Все будет – только сделай мне передовой колхоз, чтобы люди смотрели, как в нем все механизировано и автоматизировано!».
– То есть как предусмотрительный во всем, рачительный хозяин, он совсем не собирался тебя куда-либо отпускать?
– Выходит, так. Но оно и понятно – ведь на нас, студентах нашего институтского потока, все эти годы держался Адамовский совхоз. Все это верно. Но ведь и наш макатский секретарь обкома Мукашев на родину мне направление дает – зовет и требует. Военные тоже наседают, даже отрапортовали, оказывается, кому надо, что я, якобы, согласен стать их инженером. Отрапортовать-то отрапортовали, но я же согласия не давал. Да и обком меня бы не отпустил. Приезжали за мной также из авиационного института, чтобы я перевелся к ним на конструкторский факультет. Звали два раза – приезжай! Престижно ведь! Они набирали самых талантливых учащихся со всей страны с перспективой потом этим счастливчикам попасть в космонавтику. И Воронов все про колхоз имени Пугачева твердит. Я же его подопечный, и я ему нужен.
Словом, как бы то ни было, а я поехал на работу домой. И сразу же в том здании из красного кирпича, где папа еще учился, – это, как я сказал уже, местечко Карабол – открыл училище механизации, набрал ребят, обучил их. Сам стал председателем Госкомиссии, принял экзамены, заменил кого-то из трактористов. Словом, дело, как говорится, пошло. Но вот однажды, представляешь, стена у этого здания развалилась. Стоявшая возле нее машина во время сильного ветра покатилась и врезалась в нее, и из стены посыпались, что бы ты думала? Керенки! Да-да, именно эти д

2027 раз
показано2
комментарий