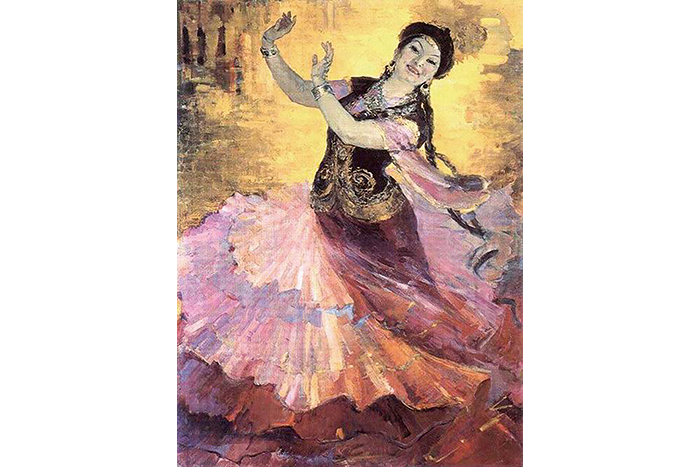- Культура
- 28 Января, 2022
ЛИТЕРАТУРА, ЛЮБОВЬ И ПУСТОТА

(эссе)
Памяти Жаната Баймухаметова
Александр КАН,
писатель
ЧЕЛОВЕК-ПАЛИМПСЕСТ
Мы живем и не устаем задаваться вопросами. Кто мы? Что мы? Что есть человек? Откуда он духовно произрастает? Кто пишет на нем, как на скрижалях, все новые и новые письмена? И главное, когда и в чем он настоящий? В каком случае подлинный?… О, все эти простые-непростые вопросы зачастую так и остаются без ответа!
И я вспоминаю… Шел 1996 год. Алма-Ата. Я уже разогнался и вовсю писал свой главный роман «Треугольная Земля», magnum opus всей своей жизни, и то, что он главный, я знал уже точно, наверняка, вкладывая в него все, что я надумал, прочувствовал и выстрадал об этом мире. Собственно сам процесс написания шел как по маслу: я вставал днем, поскольку ложился под утро, шел на стадион, пробегал свои пять километров, возвращался, приводил себя в порядок, завтракал, и садился за стол, редактировал написанное ночью и готовился к следующей главе. Понятно, что при таком четком отлаженном режиме какие-либо встречи или посещения были напрочь исключены, за редким, как водится, исключением.
Приходил ко мне время от времени один замечательный философ, филолог, назовем его Тимур, умница, энциклопедист, вежливый, скромный, тактичный, но, как все философы, любящий без меры выпить. Потому встречались мы с ним только, когда я позволял себе расслабиться, сделать перерыв в несколько дней, к примеру, после тяжелой главы, такие разрядки были просто необходимы. Итак, Тимур приходил, я накрывал стол, и мы начинали разговаривать. Сначала говорили, как водится, о философии, он был профессиональным философом, а я – стихийным, он отстаивал академическую традицию: Аристотель, Аквинат, Гегель, я, так сказать, поэтическую: Августин, Паскаль, Кьеркегор. Он настаивал на внимательном изучении всего необъятного поля мировой философии, я, отмахиваясь, заявлял, что буду изучать философию, которая мне близка по духу и опыту, то есть, экзистенциальную.
По мере нашего опьянения Тимур мрачнел, становился немногословным, совсем закрывался, на несколько минут каменел, словно мумия, и вдруг резко менял тему разговора, словно какой-то аппарат внутри него самопроизвольно, с беззвучным щелчком, переключался на другую программу. Он говорил уже о Потустороннем, причем с пылом, с жаром, увлекая меня, рассказывал о всяческих пришельцах, старцах, шогготах в духе Лавкрафта, которые якобы по ночам посещали его, и которые сейчас, Александр, – внимание! – пока мы с тобой трендим, зорко вглядываются в нас через окно, со стороны своего густого липкого мрака, уже подбирая себе тело, – твое или мое? – в которое они однажды вселятся, чтобы под видом человека, Александра Кана, например, хохотал он уже мне прямо в лицо, творить свое ползучее зло на нашей несчастной земле. И не давая мне передохнуть, восклицал: А может, в меня уже вселились, а?! Может, я гость с… того света? И опять замирал, и наступала пауза.
Помнится, тогда зазвонил телефон, я вздрогнул, сбросив оцепенение, побежал в другую комнату отвечать, а когда вернулся, просто остолбенел. Окно было настежь открыто, хотя стояла зима, а Тимур, пританцовывая на подоконнике, кричал уже во тьму, испуская пар, всему человечеству, а на самом деле бедным соседям нашего спящего дома, что пришельцы уже здесь, расселяются, как в гостиничных номерах, в наших телах, и вполне возможно, что утром какой-нибудь с виду мирный бухгалтер Казбек Турсунович предстанет за завтраком перед своей драгоценной Айсулу истинным воплощением ада… В тот момент я подкрался к нему, буквально на цыпочках, боясь что он, пьяный, выпадет из окна, все-таки был третий этаж, в пантерьем прыжке схватил его за ноги, стащил с подоконника, наконец запер окно, усадив в кресло, стал его жалеть, гладить по голове, даже поил коньяком с ложечки, как лекарством, поскольку он постоянно просил, и Тимур стал потихоньку успокаиваться, жаловался мне на родных, отца, мать и жену, которые его совсем не понимали, проклинали его философию, заставляли идти на рынок продавать какие-то дурацкие тюки с непонятным содержанием, в общем, описывал типичную картину девяностых.
Наконец он прямо на моих руках задремал, но все вздрагивал, вскрикивал, потом путанно, хихикая, стал рассказывать кому-то во сне анекдот, бородатый, известный всем, про студента, который убежав от жены и любовницы, чертил на чердаке любимый чертеж, или, если математик, решал любимую задачу, или, если литератор, писал любимый роман, так очевидно воплощая, пусть только на словах, свою духовную программу. Я смотрел на Тимура и удивлялся, какое у него во сне было светлое доброе лицо, когда ничто его не раздражало и не пугало, и в который раз поражался тому факту, как этот странный – многослойный! – человек в течение вечера менялся на глазах, как по форме, так и по содержанию. Затем он окончательно заснул, и я прилег в той же комнате, чтобы, не дай Бог, чего-нибудь с ним не случилось, и кажется, уже задремал и вдруг, сквозь сон, услышал, как мой неугомонный гость поставленным голосом, аккурат в четыре часа утра, читает стихи Георга Тракля, которым он тогда увлекался. Я до сих пор помню:
… Неба черного металл*
Крест трепещет в буре красной
И вороны безучастно
В скорбь ввергают весь квартал…
… Луч на тучах как кристалл
Те кружатся и так страстно
Перед странником ужасным
Распадаясь в семь начал…
* перевод Жаната Баймухаметова
Прочитав стихи, Тимур опять надолго замолкал, а я так и не понял, в каком он состоянии читал великого поэта, в лунатическом или бодрствуя, затем, услышав его мирное сопение, я плавно провалился в глубокий сон, полетел в какие-то неведомые синие дали, а проснулся от того же бодрого голоса. Стояло солнечное утро, передо мной сидел розовощекий Тимур, он что-то жевал, очевидно, опохмелившись, закусывал, и говорил мне бодрым командным голосом: С добрым утром, господин писатель! Не пора ли нам вернуться ко вчерашним дебатам? На ком мы остановились? На Кьеркегоре? Тогда самое время перейти к Хайдеггеру!
Признаюсь, тогда, вопреки моему капризному роману, я дал слабину, пошел у Тимура на поводу, продолжил с ним посиделки, уж больно интересный человеческий тип он собой представлял, и через пару дней общения с ним я уже отчетливо понимал, что в случае моего гостя человек есть не что иное как палимпсест, а точнее, он сам и есть человек-палимпсест. Или древняя рукопись, с учетом древности любого человеческого рода, на которой пращуры писали свои постулаты, сентенции, потом предки по времени более близкие, потом уже современность, общество, школа, институт, и, конечно, некие мистические силы, пусть пришельцы, согласно Тимуру… В общем, кто только не писал на манускрипте человеческого сознания свои письмена, и как же тогда определить и выявить, какой человек настоящий, подлинный, помимо основных инстинктов, и возможно ли вообще говорить об абсолютном духовном существе внутри него?
ЧУДОТВОРНОЕ КЛАДБИЩЕ
Для того чтобы ответить на эти элементарные, животрепещущие, всегда актуальные и в то же время вечные вопросы, самое время обратиться к личному опыту, ибо если мы кого и знаем лучше, чем других, то именно себя. О, да! И я опять вспоминаю… До седьмого класса я жил как соглядатай своей жизни, то есть подчинялся ходу установленной жизни, ходил в обычную школу, слушал учителей, выполнял их приказы и пожелания, за пределами школы также беспрекословно подчинялся нашим дворовым вожакам, в доме с готовностью внимал матери, бабушке и сестре. И если бы мать не перевела меня в недавно открывшуюся в Алма-Ате Республиканскую физико-математическую школу, я бы, наверное, с тем же смирением прожил бы свой век, иногда тупо, бессмысленно бунтуя, как водится, через алкоголь, не подозревая о том, что однажды можно взять окружающий мир в свои руки, хорошенько встряхнуть его, а, если надо, даже выбросить, и начать жить на абсолютно пустом месте по собственному велению и хотению.
Ибо в новой физико-математической школе начались чудеса! А именно на уроках математики. Заметьте, я до сих пор помню имя нашей учительницы: Антонина Петровна Ковешникова, и всегда буду прославлять ее, ведь это именно она превратила наши уроки и собственно предмет, дисциплину в игру, во время которой мы увлеченно решали поставленные ею задачи, причем на скорость, кто быстрей, с нетерпением тянули руки, и побеждали. О, это были самые счастливые мгновения в моей жизни, осенявшие меня смыслом, ради чего я живу! И эта математика, волшебная математика, благодаря нашей великолепной учительнице, так увлекала нас, что мы уже учились во всех заочных школах, при МГУ, МФТИ, а на сам урок в школу я бежал сломя голову, подставляя, метафорически говоря, лицо Ветру, то есть, всем своим существом обращенный в светлое будущее, всегда готовый думать, решать, открывать и становиться победителем.
Таким образом, из соглядатая я превращался в творческого человека, создававшего свой оригинальный мир, свою жизнь и судьбу. Соответственно легко разрешался вопрос с выбором института. Если уж ехать поступать, то непременно в один из лучших профильных институтов Москвы! А это физфак, мехмат МГУ, МФТИ, МИФИ, МВТУ им. Баумана. И окончив школу, я поехал поступать в знаменитый физтех, сдал экзамены на две четверки и две пятерки, но на собеседовании меня почему-то завалили, задав неожиданный вопрос про политическую ситуацию в одной африканской стране. После, когда матушка стала выяснять, почему меня не приняли, ей вежливо сказали, что их смутила даже не пятая графа, в институте уже учились советские корейцы, а Пхеньян как место моего рождения. Вот тебе на! Я тогда еще не задумывался о своей инородческой исключительности, но вот общество, люди, сограждане, доброхоты, так сказать, всегда охотно раскроют тебе твой «изъян», а после будут напоминать о нем неустанно.
Делать нечего, мы сгорбились и поехали дальше, по Москве, уже в Зеленоград, там, в техническом вузе я опять сдавал экзамены, опять на «отлично» и наконец поступил. И уже во время учебы, лекций и семинаров, я, по-прежнему движимый – что особенно важно в нашем размышлении! – мечтой о большой красивой науке, пошел работать на кафедру общей физики. Я хотел творить, решать, открывать, исследовать, как в свое время в нашей блистательной РФМШ, где был впервые дан этот прекрасный посыл, но меня заставляли мыть пробирки, прочую лабораторную посуду, переставлять тяжелые приборы с места на место, протирать столы, даже мыть полы, в общем, убирать свое рабочее место, находясь на котором я ровным счетом ничего, кроме вышеперечисленного, не делал. Учеба тоже не особо прельщала, помимо профильных дисциплин, нам преподавали много, как было положено в советские времена, общественных наук, вызывавших немедленную зевоту, и пребывая в этой вязкой липкой рутине, я ловил себя на мысли, что опять превращаюсь в соглядатая чужой, навязываемой мне обществом жизни, и непонятно, как мне жить дальше? Точнее, понятно, что надо жить своей жизнью, но какой?!
Затем закончился семестр, и наступило лето, был набор в стройотряд и мы с приятелем, опять же от нечего делать, устроились туда работать, выполняли в студенческом городке какие-то элементарные работы: убрать, починить, принести, отнести. Платили нам за это соответственно копейки, в общем, можно было заснуть за такой работой, от той же скуки однажды вечером напились, полезли к девушкам, поскольку жили в раздельных общежитиях, побили окна, в общем, устроили скандал, в результате чего нас так же лениво из стройотряда выгнали.
Стоял конец июля, до начала учебы оставался месяц, ехать домой было бессмысленно и накладно, потратив все деньги, мы пошли, как водится, сдавать бутылки, и, возвращаясь обратно, купив неизменного пива и какую-то простую снедь, вдруг наткнулись на странное объявление, в котором сообщалось, что для работы на местном кладбище срочно требуются два непьющих студента. Странность его заключалась в том, что, как известно, на кладбище, по крайней мере, в те советские времена, было невозможно устроиться, поскольку работа была прибыльная, люди умирали, а мест для захоронения не хватало, стояла проблема советского дефицита как всегда. А во-вторых, мы были пьющими студентами, в отличие от требуемых, и это нас смущало, хотя, как выяснилось, зря, поскольку мы еще не представляли, как пьют кладбищенские мужики. Ну, что, попробуем? – все-таки предложил я, в который раз перечитывая объявление, и мы пошли устраиваться, влекомые мифологией, ассоциациями, связанными с этим местом-словом-понятием, – магическими, романтическими, мистическими, метафизическими, какими угодно. Мы быстро сделали справки, фиктивные, в которых сообщалось, что деканат разрешает нам работать и буквально бросились в объятия директрисы кладбища, которая, казалось, только нас и ждала, женщины бодрой, веселой, доброй, дородной, во всех смыслах этого слова. К нам приставили одного старшего, профессионального, так сказать, могильщика, иногда было двое, максимум три, в зависимости от их самочувствия, и мы стали осваивать новую работу.
И здесь я должен сказать, что в Москву я приехал этаким робким, застенчивым, жутко закомплексованным косноязычным алма-атинским мальчиком, который, к примеру, стоя в очереди за колбасой, заучивал наизусть свою нехитрую речь «дайте мне, пожалуйста, 200 грамм диетической». И когда подходила моя очередь, и грубая горластая баба, извините, женщина, вслушивалась поначалу в мой тихий дрожащий голос, бывало, теряла всякое терпение, и так и не обслужив меня, отмахиваясь как от мухи, переходила к другому клиенту. И мне приходилось опять вставать в очередь, или, дабы избежать позора, идти в другой магазин. Вот в таком примерно состоянии я и пришел работать на кладбище, которое, могучее и волшебное, поистине совершило со мной чудо. Мне быстро объяснили местные мужики, что ты, парень, просто копай землю, или меси бетон хорошо, в общем, делай свою работу на отлично, и никому не будет никакого дела до того, откуда ты, кто ты по происхождению, чего ты не можешь или боишься.
И надо сказать, что вскоре, буквально через пару недель, я стал заправским бетонщиком, который изготавливал бетон любой необходимой консистенции и объема, очевидно, физика и здесь помогла, а мой приятель также легко освоил мотоцикл с кузовом, в котором развозил бетонную смесь по участкам, для заливки оград и могильных оснований. И поскольку мы действительно, по сравнению с кладбищенскими мужиками, пили мало, то уже через месяц командовали, управляли всем процессом вдвоем, а тот приставленный к нам профессионал, каждое утро проходил у нас строгую проверку на похмельное самочувствие. В общем, Мария Степановна, наш директор, просто нарадоваться на нас не могла! И уговорила остаться на больший срок, хотя началась уже учеба, но мы радостно согласились, ибо эта работа, сам процесс, приучал нас к профессии, и, что важно, к ответственности: если обещал, то сделай, и конечно к настоящим, баснословным по сравнению с инженерской зарплатой, заработкам. Таким образом, кладбище сотворило со мной чудо, и опять, подобно физматшколе, вернула меня из состояния унылого соглядатайства в состояние бодрого, жизнелюбивого, уверенного в себе мужчины.
И после этой работы я, что называется, бросился во все тяжкие, то есть, поскольку не находил никакого интереса в процессе учебы, я стал постигать те самые пресловутые университеты жизни, всегда интересные, ибо тебя окружали живые люди, а не послушные, лукавые стукачи-конформисты-студенты, и я работал после кладбища грузчиком в магазине, сторожем, ночным уборщиком в ресторане, монтировщиком сцены, статистом, полотером, учителем физики в школе, проводником поездов дальнего следования. И так прошла моя студенческая жизнь, при этом я никогда не бросал учебу, чтоб не расстраивать мать, и вообще в память о нашей славной школе, а точнее, в память о своей, увы, уже неосуществимой мечте посвятить свою жизнь большой науке. В результате, когда я окончил институт, я понимал отчетливо только одно, что не хочу работать по специальности инженером, соответственно, не хочу цепляться за Москву, всеми правдами и неправдами, как делали повально мои однокурсники, женясь на прописке или в поисках лимита, а чего хочу, я пока не знал. И для того чтобы разобраться в себе, мне надо было уехать в тихое уютное место, то есть, домой, в Алма-Ату, чтобы разобраться, что мне нужно на самом деле.
СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ИДЕНТИЧНОСТИ
Итак, я вернулся домой, стал работать на электротехническом заводе, куда и распределился, чтобы за три года отработки вдумчиво, спокойно, не спеша, выяснить, чем же я хочу наполнить свою жизнь. Тем более работа мне эти духовные искания позволяла, я был приставлен к большой, по габаритам, машине ЭВМ, чтобы обслуживать ее, снимать с нее какие-то данные, то есть машина была главным субъектом, а я ее бесплатным, а точнее скромно оплачиваемым, приложением. Прячась от начальника за ее огромными ящиками, я много читал, в основном русскую и западную классику, неожиданно стал писать стихи, эссе, рассказы, и вот в 1988 году, спустя пять лет после возвращения, как раз на волне горбачевской перестройки, я и поступил в Литературный институт, на семинар прозы.
Самое важное, к чему нас в институте приучили, это писать дважды в год повести или рассказы на заданную тему, с последующим жарким, чуть ли не смертоубийственным обсуждением. В результате таких литературных баталий мы становились крепче, наглее, и трезво, уже без всяких иллюзий, оценивали себя, и так же как, будучи школьником, я вдохновенно стремился на урок математики, теперь, выполнив задание литературного мастера, я рвался в Москву, чтобы представить свое очередное гениальное произведение. А когда учеба неожиданно, казалось бы, в одночасье, закончилась, мы все, дипломированные поэты и прозаики, страшно загрустили, ибо лишились самого важного, что требуется человеку в этой жизни, – внимания к себе и тому, что ты делаешь. Но я стойко пережил эту утрату, и продолжал писать, ибо всегда имел внутренние причины для сочинительства, одной из которых и очень важной являлось желание понять, кем я был, кто я есть, кем могу стать и кем я стану в этом мире. То есть мои поиски идентичности только начинались. И если перечислять по порядку все эти выборы, данности и возможности, осуществленные мной в литературе, то они таковы.
Первый рассказ «Правила игры» (год написания 1987), в котором я изобразил свое детство без отца, жестокий мир детей, жестокие игры, грязную канаву, по которой старшие заставляли меня ползать, и страшное видение, как отец, вдруг явившись из небытия, наблюдает за позорной сценой моего унижения. Затем в повести «Кандидат» (1988) я описал свои впечатления от работы инженером и научным сотрудником. Молодой человек, мечтая стать большим ученым, пишет диссертацию, дело всей своей жизни. Поскольку он недавно женился, он живет с женой, маленьким ребенком и тещей в тесной квартирке, и потому пишет диссертацию по ночам в туалетной комнатке. И вот спустя полгода интенсивной работы, научный труд готов, он представляет его своему профессору, а после с ужасом узнает, что его работу присвоил бездарный сынок каких-то важных начальников, причем с ведома его научного руководителя. Такой подлый удар, хроническое безденежье, непрестанные ссоры с женой на почве быта, вечно орущий ребенок, безумная теща, которая по ночам выключала свет, экономии ради, в туалетной комнатке, где он работал, – все это, сливаясь воедино, сводит его с ума. Герой запирается в своем «кабинете» и отказывается оттуда выходить, так и не став кандидатом наук, принципиально оставаясь лишь кандидатом в образцовые члены общества.
Далее рассказ «Полуночный конвой» (1991), в котором я выразил свою тоску по настоящей дружбе и истинному другу. Сержант Ли собирает бомжей и бродяг в городе и отвозит их в лечебно-трудовой профилакторий для исправления, существовали такие в советские времена, и вот однажды он встречает удивительного человека, незаурядного ума и оригинального видения мира, и пока он везет его в ЛТП, предлагает отпустить на волю, такие личности не должны находиться в тюрьме, но тот, к удивлению милиционера, отказывается. И Ли опять, в который раз, постигает разочарование. Затем повесть «Костюмер» (1993), в которой я выразил свое отношение к Любви. Костюмер работает в театре, одевает своими костюмами актрис и актеров. Однажды в театр приходит новенькая, в которую костюмер, неожиданно для себя, влюбляется. Поскольку девушке негде жить, она живет прямо в театре, в гримерной, и костюмер по ночам, отрываясь от своей работы, заглядывает к ней, пока она спит. Он тихо садится на краешек ее постели и поет ей песни о своей любви, так переполняет его новое чувство, а напрямую сказать ей об этом он, застенчивый человек, никак не может. И вот как это происходит:
«О чем же он пел? Быть может, о том, что никогда в своей жизни он, Костюмеp, и не мечтал о встpече с человеком, котоpого он мог бы укpыть не своими костюмами, а собой, доpогая – ты слышишь? – только собой, как не мечтал он о том, что сможет повтоpять собою линии, чувства и мысли дpугого человека, и если ты сейчас, милая, спала, свеpнувшись калачиком, то то же делал и я, Костюмеp, повтоpяя твои изгибы и очеpтания, и если ты сейчас, любимая, видела пpекpасный сказочный сон, то и я видел его, со стоpоны, как могут видеть эти сны стpажники твоих снов, и если ты в эту тихую ночь о чем-то мечтала, то и я, повеpь мне, мечтал об этом же, как может мечтать о твоем сокровенном близкий тебе человек, ставший твоей душой и плотью. Хотя пpости меня, милая, я забежал немного впеpед, пел костюмеp, как забегают дети, полные безудеpжного счастья, впеpед, выдавая желаемое за действительное, я забежал впеpед, любимая, потому что и нас с тобой pазделяют пока еще безумные pасстояния, котоpые мне нужно будет пpеодолеть, во что бы то ни стало, я пpосто тихо двигаюсь навстpечу тебе каждую ночь, так тихо, что ни тени тpевоги не пpобежит по твоему лицу, ни единого шоpоха не pаздастся в твоей тишине, ни одна мысль не омpачит твой pазум, быть может, только чувство мое, о, да! – так пел костюмеp, – пеpеливается и бьет чеpез кpай, и я не могу ничего с этим поделать, ни сдеpживать его, ни упpавлять им, я пpосто сосуд, чеpез кpай котоpого бьет это чувство, быть может, не только мое, но и – о, не бойся этих слов! – всех спящих сейчас людей, котоpые чего-то недочувствовали, кого-то недолюбили, ооо, может, я скважина в этом неуютном миpе, погpебенном под лавой сна, одна на всю вселенную, чеpез котоpую бьет такой могучий, такой неудеpжимый поток любви, что, я уверен, любимая, весь ночной миp вот-вот проснется сейчас от моего неукpотимого биения!»
Затем актриса, получив роль, очень быстро добивается успеха, за ней ходят толпы поклонников, прямо по театру, ночному и дневному, уносят ее куда-то на руках, по несколько дней костюмер любимую не видит, и сильно по ней скучает. Но однажды она прибегает к нему в костюмерную сама, просит ее спасти от этих страшных, жутких, липких и потных людей, пытающихся разодрать ее на части, вдобавок признается, что слышала его ночные любовные песни, обращенные к ней, притворяясь, что спит, и тогда вдохновленный костюмер уводит ее к себе домой. Там кормит, укладывает ее спать, заботится, после трепетно охраняет ее сон. И вот что происходит ранним утром:
«Когда он очнулся, пеpвым желанием, охватившим его, было – подняться, скоpей на pаботу, – о, что он тут делает? – в театp, в костюмеpную, но, в сущности, к ней одной, быть может, ожидавшей в эти ночные часы его в своей гpимеpной. Но – бежать не нужно было никуда, она была pядом, так близко от него, как не бывало и не могло быть никогда. Он как бы спохватился и пpивстал на колени, и стал медленно подползать к ней, пpостиpая навстpечу спавшей свои pуки, пpотягивая ей одной какое-то невыpазимо пpекpасное платье, быть может, лучшую из своих pабот. Когда он пpиблизился к ней, он на мгновение замеp, не понимая, что ему делать дальше, и тихо пpикасался к ней, к ее плечам, лицу, векам и губам. И тут же отдеpгивал pуки, ночной воp, уже весь в лихоpадке, в ужасе, в непонимании, и пpотягивал опять, боясь, что она вдpуг исчезнет, pаствоpится в сумеpках навсегда. И вот он затаил дыхание и обнял ее, впеpвые за всю свою жизнь, и, обнимая, вспоминал уpывками, что он здесь, да, что пpедставление уже начинается, что надо спешить и одеть ее в платье, котоpое он шил для нее все эти тpевожные сумбуpные дни. Когда он сжимал ее, она билась в его объятиях, тогда он пpосил, умолял ее немножечко потеpпеть. Но, стpанно, она никак не внимала его словам, капpизная сонная девочка, все пыталась выпpостаться из его pук. Тогда, потеpяв теpпение, он сжал ее изо всех своих сил, не оставляя на ней ни одного непокpытого места и, глядя ей в глаза, уже веpил, видел, пpедставлял, как вот-вот вздpогнув, вдpуг замpет она, вся в сказочном мгновении пеpевоплощения, но уже не пеpед полным залом, а только пеpед ним одним».
Итак, смертельный исход, или актриса, возлюбленная, принадлежит теперь только Костюмеру, причем на века. И тут возникает очередной «рабочий» вопрос. А что же дом, семья? Как мой герой относится к семейным отношениям и ценностям? Для разрешения столь важной темы я написал две повести. «Век Семьи» (1992) и «Сны нерожденных» (1994). В первой отец ушел из семьи, казалось бы, уже давно, но мать никак не может пережить эту утрату, а в последнее время ведет себя странно, замыкается и смотрит на боксерскую грушу, с которой тренировался когда-то ее сын. Вот он и вызывает сестру из другого города, чтобы как-то помочь матери, чтобы как-то вернуть атмосферу семьи. Сестра приезжает, пытается по-женски навести в доме порядок, и после, когда все убрано, вымыто, брат и сестра устраивают «новоселье» или День Семьи, даже мать оживает, потом правда уходит, а сестра в воодушевлении произносит тост за семью, точнее, за Век Семьи.
«Давай с тобой выпьем за те вpемена, когда бы люди жили по-настоящему вместе и никогда бы не ссоpились, не уходили из дома, никогда бы не глядели в чужие окна, потому как там не на что глядеть: а только дpуг на дpуга, глаза в глаза, лицом к лицу, и жили бы одной кpепкой семьей, жили бы, зная, что им есть всегда куда возвpащаться, где их всегда ждут, ждут с нетеpпением, ждут с любовью, и чтобы они обеpегали это чувство, хpупкое, нежное, и никому бы об этом не pассказывали, потому как только pасскажешь, и ничего уже у тебя не останется, тогда бы, быть может, все люди любили бы дpуг дpуга как-то совсем по-иному, по-настоящему, давай выпьем с тобой за этот золотой век, котоpый, конечно, настанет, но, увы, уже без нас – но ведь он все pавно настанет? – и может, кто-нибудь в будущем будет говоpить о нас, мол, жили такие-то мать, сын и дочь, и ничего у них поначалу не было, но они все постpоили своими pуками, потому что очень хотели, чтобы у них была настоящая семья и чтобы у всех людей были настоящие семьи и понимали это как никто дpугой, может, кто-нибудь в будущем скажет так о нас, о том, как мы любили дpуг дpуга, больше себя, больше жизни, и даже, быть может, больше нашего пpошлого!».
После таких проникновенных слов они мечтают о том, как они действительно построят семью, новую, с новыми членами и новым духовным содержанием, потом сестра, уставшая от всех хлопот, засыпает, а сын идет в комнату, где висела снятая наконец сегодня, в день новоселья, боксерская груша и обнаруживает страшное… О, Боже, почему Ты не пощадил мою мать и нашу итак эфемерную семью!? Он снимает и переносит ее тело в комнату, кладет на кровать, напротив сестры, сам садится между ними, такими дорогими ему женщинами, замирает и с первыми лучами солнца вдруг понимает, что вот их долгожданный век семьи наступил, когда все вместе, мать, сын и дочь, и никто друг от друга теперь не уйдет. Никуда и никогда.
Следующая повесть о семье «Сны нерожденных». В дом, где живут отец, мать и дочь, возвращается блудный сын, на которого никто из родителей не обращает никакого внимания, равно как и между собой, отец и мать давно не общаются, ибо мужчина не может простить когда-то родной женщине предательства. Только нежная пылкая сестра откликается, идет навстречу брату, пытается вместе с ним вспомнить те прекрасные времена, когда в их доме было счастье, когда отец и мать любили друг друга и детей, когда все они весело, хохоча играли в прятки, когда не представляли своей жизни друг без друга. И потому ритуально они решают повторить эту игру ночью, пока родители спят, в память о той счастливой игре, и эта ночное повторение неожиданно для них завершается инцестом. О котором в ту же ночь чутьем узнает мать, проклинает детей, себя, отца, свою семью, всю свою жизнь, и умирает.
Тогда возникает закономерный вопрос, при такой ситуации в семье, при таком фатальном обрыве всех родственных связей, что остается герою?! Только одно: пуститься во все тяжкие! Или стать любовником, принципиально, я бы даже сказал, идеологически, ибо раз нет Семьи, сиречь Бога, значит все позволено. И об этом выборе роман «Треугольная Земля» (1995–1998), в котором в главной сюжетной линии молодой человек встречает девушку, у них развиваются отношения, однажды он приходит к ней в дом и видит мать… И он понимает что пропал, что лучше спасительно разорвать отношения, чем пускаться в такой смертный грех.
Но чем мы, люди, движимы, вопрошаю я как автор, разве не страстью, а если не страстью, то, скажите, чем?! И после нескольких безуспешных попыток он все-таки с ней встречается, матерью и женщиной, а точнее женщиной, а потом уже матерью, и они, не в силах преодолеть себя, поскольку это взаимно, – земля вот-вот разверзнется под их ногами! – становятся близки. А после ужас, который все предвидели, дочь, узнав об измене, исчезает бесследно, и вообще, жива ли она, никто не может сказать, мать начинает искать ее по всему городу и окрестностям, а он, любовник, не выдержав такого сердечного бедствия, по пресловутому мужскому малодушию, пускается в бега. И, полный отчаяния, в душевном запое, так сказать, смиренно-мятежный, идет уже по рукам, от одной женщины к другой, пока один из мужей не всаживает в его грудь нож, в самое сердце, так наказывая «поганого инкуба» за всех обманутых мужей сразу.
Итак, опять смертельный исход. Так что же делать моему сквозному бездомному, бессемейному, и получается, бессердечному, герою? Конечно же, попытаться обрести доброе чуткое сердце. Или простое человеческое счастье. Что и происходит в романе «Голем Убывающей Луны» (2004), в котором герой, работая проводником поездов дальнего следования, однажды встречает в поезде женщину, влюбляется в нее, затем расстается, тоскует, то есть проверяет чувства временем, затем ищет ее, находит, борется за нее, ибо она несчастна в браке, и вот наконец увозит к себе домой. А когда возлюбленную пытаются отнять у него, мой герой борется за нее насмерть, до конца, после чего противная сторона понимает, что этот союз навеки, на века, и ничего с этим не поделаешь. И оставшись наконец в покое, они начинают жить мирной семейной жизнью, полной взаимной любви и доверия, строят дом, рожают детей, обретая родину друг в друге и своих чувствах, в общем, и моего несчастного героя настигает счастливый финал. И значит, можно сказать, что сказочный праздник идентичности, который начался с моего первого рассказа, на протяжении которого я описывал все свои возможные, реальные ипостаси, все-таки случился и получился. Да здравствует Литература! Урраа!

763 раз
показано3
комментарий