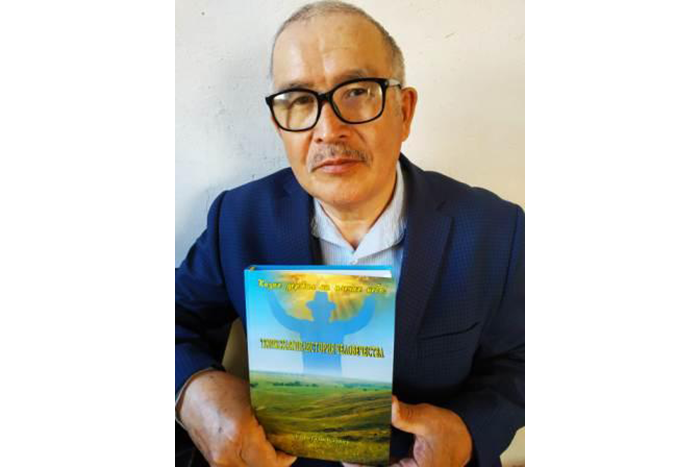- Время
- 03 Марта, 2020
В Р Е М Е Н СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
Повесть Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря»1 содержит много черт, знакомых нам по произведениям, о которых шла выше речь. Это и колоритные детали быта, и вставные легенды о происхождении клана, и замкнутое пространство основного действия, это, наконец, решенная в ключе нравственной проблематики тема продолжения рода. Вместе с тем повесть несет в себе ряд новых эстетических свойств, рожденных в результате осознанной и целенаправленной попытки писателя перешагнуть достигнутые им и коллегами по перу рубежи. Повесть в этом смысле может быть рассмотрена как образец решенных и остающихся нерешенными проблем интересующего нас литературного явления. О том, что писатель при создании ее руководствовался мотивами поиска иных, более совершенных художественных средств, недвусмысленно свидетельствует факт обращения его к проблеме и реалиям существующего произведения – романа В. Санги «Женитьба Кевонгов». В ряде мест Ч. Айтматов «поправляет» очевидные художественные просчеты В. Санги. Так, например, историко-познавательные сведения о жизни нивхов даны не в прямом авторском изложении, а через познающее восприятие мальчика и потому не отягощают текст, напротив, многократно его усиливают. Отраженный в сознании Кириска, духовный мир народа вместе с ним, символом продолжения рода, проходит тяжелейшее испытание в предельной, критической ситуации между жизнью и смертью. Можно было бы привести ряд аналогичных примеров, но суть дела не в этом. И даже не в том, что мы имеем блистательный результат – историю о «самопожертвовании во имя бесконечности жизни» (А. Белорусец). В этой повести Ч. Айтматов проводит исключительно важный в своем замысле эксперимент по созданию стиля, способного показать бытие человека в его становлении и движении к будущему. И в качестве опоры он находит в истории мировой культуры традицию, глубоко разработавшую в свое время представление об историческом становлении и преемственной связи поколений. Возникают великие стихии, неровно, временами ласково, временами грозно и безжалостно реагирующие на человека. Человек противостоит им благодаря силе своего нравственного закона. Это древняя тема, освоенная давними художественными средствами, но влекущими, чарующими писателя совершенством выполнения задач, аналогичных стоящим перед ним. Вслушаемся в зачин, столь характерный для повести, вернее, для одного из ее стилистических пластов: «Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменно твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения – с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени». Здесь не только лексика заставляет вспомнить другой, противостоящий гомеровскому стиль, но и лаконизм в использовании эпитетов (внимание сконцентрировано на субстанциях – вода, твердь – и их взаимодействии), и интонация... И далее – происходит «затемнение» жизни клана Рыбы-женщины, остающегося у подножья Пегого пса, «выделяются», выводятся на авансцену четыре нивха в лодке с единственным оружием в страшном испытании, выпавшем на их долю – «заветным долгом старших перед младшими». Текст обретает многозначность, усиливается элемент символики. Такие детали, как, скажем, сопка Пегого пса или жалобный скрип уключин в великом оцепенении моря вырастают в символы, оказываются сверхнеобходимыми, нагруженными особым «всемирно-историческим» смыслом. В ходе дискуссий по «мифопрозе» исконное различие классического мифа и библейских текстов каким-то образом сгладилось. Использованные в современной литературе, эти разнящиеся сущности стали обозначаться единым словом – миф. Именно это «неточное» определение употребляет и Ч. Айтматов, когда он говорит: «Миф – это фон. Однако на этом фоне пытаемся мы проследить всю свою Жизнь. Это опора, а не прием». Смысл, которым нагружает писатель слово «опора», можно ощутить в словах Пилата из «Плахи»: «И не мни, что ты царь Иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись». В «Пегом псе» состоялась первая серьезная прикидка писателя, испытание возможностей «мифа» в его синкретическом значении, включающем и собственно мифологические, и библейские традиции. Этот стилистический пласт совмещен в повести с другим – описанием, «придающим вещам законченность и наглядность», осваивающим конкретное, локализованное в пространственно-временном отношении явление. Для примера можно сопоставить сны и мечтания старейшины клана Органа о Рыбе-женщине, его мысли о бессмертии и свободе с его же монологом, обращенным к собственноручно изготовленному каяку. В первом случае торжествует «экспериментальная» манера письма. Во втором, начинающемся со столь же возвышенно-многозначительной интонации («ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн...»), постепенно происходит «заземление», автор сообщает много информации о нивхах, отправляющихся на охоту, и вкладывает в монолог Органа слова о мальчике, об Эмрайне, о Мылгуне, об искусстве гребли, сведения о предстоящем пути, о том, как встретит их клан в случае удачи, и даже бытовой охотничий прогноз («Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах») – то есть все то, что для первого стилистического пласта несущественно, излишне, чрезмерная дробность. Стили совмещены, и каждый из них в отдельности достоин пера большого мастера. Но в отношениях между собой они вступают в заметное противоречие. «Возвышенная» интонация местами приводит к патетичности в изображении обыденных реалий, а полнокровный, цепкий мир деталей ограничивает восхождение мысли к новым уровням. Впрочем, создается впечатление, что это и не входит в авторский замысел. Он описывает в действии универсальную формулу бытия человека – его нравственный долг, а все остальные подчиняет этой своей идее. Здесь-то мы и сталкиваемся с характернейшей чертой этой повести – с ее нацеленной функциональностью. Такое качество имеет почву в ситуации, когда в силу особенностей своего общекультурного процесса художники слова и их произведения вынуждены брать на себя функции исторического знания, этики и эстетики, национального мировидения и миропонимания. Создается своего рода универсальная система представлений о мире, пассивно охранительная по своему существу и закономерно тяготеющая не только в поэтике, но и в целом к системе мифологического мышления. Эта система дает, конечно, понимание неких соотношений настоящего с прошлым и будущим, но «понять» в данном случае не означает «победить». И старый, и новый миф лишены активно преобразующей, созидательной силы и потому не в состоянии ответить на кардинальные вопросы развивающихся культур. Функциональная литература, по ряду основных признаков тождественная мифу, склонна к слишком трезвому расчету, рассудочности (при всей видимости аллегорической отстраненности), в ней скована свобода художественного творчества. Замкнутые пространства, исключительные ситуации, стилистика «мифов» – все для того, чтобы осуществить ту или иную функцию, и все это в итоге несет на себе печать искусственности, ограничено в возможностях озарения, непредвиденного результата. Художественное мышление изобретательно. Оно в состоянии, в частности, удобно для себя интерпретировать действительность и испытать иллюзию исполнения своего предназначения. Но остается подлинная жизнь, и от каждой литературы она требует полного напряжения духовных сил, неотделимого от последовательно углубляющегося познания мира.
* * *«Только ты, Тенгри, не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травам зеленым, к водопоям студеным, а возьми взамен эти слова». (Из «перевальной» молитвы Эрназара)
Мифологические и библейские аллюзии, широко использованные Ч. Айтматовым в романе «Плаха»2, дают основание рассматривать их с позиций метасистемы, с привлечением ее языка и понятий – в духе исследований А. Белорусца3. Это – плодотворный путь для распознавания сущностных черт того, что осмысливается, и ввода их во всеобщий обиход». Однако не всем он по плечу и близок по духу. Трансформированные в айтматовском тексте библейские мотивы нас интересуют как опыт их «ассимиляции» одним из крупнейших представителей современных литератур, объединенных, наряду с другими факторами, поиском наиболее эффективных средств в решении задач своего дальнейшего развития. Неизбежная ограниченность взгляда «изнутри» в определенной мере может быть компенсирована более точным знанием национальных реалий, состояния и проблем культурного процесса. Такому взгляду, естественно, должно быть присуще солидарное и вместе с тем требовательное отношение к направленности и результатам поиска тех, кто идет в авангарде. Приведем пример расхождения (или взаимного дополнения?) в наблюдениях «извне» и «изнутри». Г. Д. Гачев, проницательно отметив неслучайность истории пары волков в контексте «Плахи», задается вопросом: «Почему – волки? В персонажах Айтматова часто происходит сращение человека и животного. Конь Гульсары и чабан Танабай – своеобразный кентавр. Верблюд Каранар в «Буранном полустанке» – своего рода двойник Едигея. Пегий Пес и рыба-женщина, Мальчик и мать-олениха – вот своеобразный айтматовский Зодиак. Но все – животные в «законе», приемлемые для сравнения с человеком в положительном плане. А волк всегда в минусе. Но история перевернула и ценности. И Волк ныне – меньший брат наш, предмет сострадания. И закономерно: как на одном полюсе образного мира этой книги объявился Волк, самый, как принято считать, антипод человечности, так на другом его полюсе проступили очертания Иисуса как символа человечности: именно такой герой понадобился в образной системе, для музыкальной координации идей, тем и мотивов»4. Для человека, знакомого с традиционно тюркским отношением к волку, гачевская этимология образа не может не выглядеть односторонней, ибо – «...Лицо волка благословенно!» («Книга Коркута»); «В тюркской и монгольской фольклорных традициях волк – образ мужества… Волк – один из авторитетнейших тотемов степного культа. В некоторых генеалогических легендах тюрки и монголы ведут свое происхождение от волка» (О. Сулейменов, «Аз и Я»). Соответственно, судьба Акбары и Ташчайнара тюркоязычным читателем воспринимается острее и многозначительней: они не только «предмет сострадания», но и образ страдания, не только «меньшие братья наши», но и мы сами, земля и вода, степь и горы, луна, на которую хотела бы уйти Акбара, и Авдиев «островок на Оке»… Кольцевая структура «Плахи», обрамленной историей волков, на-глядный пример для причисления романа к «мифопрозе». Но есть в нем и нечто другое – уход и возвращение, а это уже из сферы конкретного литературного процесса. Воспринимая две первые части книги только как «наброски, материалы для осуществления больших и острых художественных целей», В. В. Кожинов5 прав лишь в той мере, в какой констатирует отличие их от третьей части. Такой же мерой истинности обладало бы утверждение, что странствия Одиссея – «наброски» к его акциям на Итаке. «Круг» художественной мысли в «Плахе» начинается с «ухода». Оттолкнувшись от наличной ситуации, определенно и резко обозначенной как драматическая (истребление сайги, моюнкумский период жизни Акбары и Ташчайнара), она совершает запредельный шаг, уходит в иные миры и открывает в них то, что имеет созвучие и связь с исходной ситуацией. Необъятные пространства казахской степи, Приокск, Москва, Древний Иерусалим – места скитаний мысли, многое узнающей, но сосредоточенной на главной для себя проблеме – как развязать (или – разрубить?) узел противоречий. «Богодостойное» пение болгарского хора демонстрирует великую силу духовности. «Грузинская история» о действиях Сандро, связанных с высшей целью, наводит на некие варианты разрешения проблемы. Но все это – подступы, еще нет наполнения духовности ясным содержанием. В ряду приближений возникает концепция Авдия о современном боге. Идея его бога также не ясна и пока не имеет решающего значения. Более существенным оказываются сопутствующие обстоятельства – реакция окружения (духовного, светского, мирского) на замысел Авдия и – Городецкого, Координатора, Обер-Кандалова, Гришана с его анашистами, особо нас интересующий эпизод с Иисусом и Пилатом. Носитель альтернативного мышления испытывает давление среды, однако находит в себе силы противостоять ее императиву «отрекись!», что приводит в конечном счете к его гибели. Способность человека сделать свой выбор и в предельной ситуации отстаивать его до конца – вот что находится в зоне особого внимания писателя. В статье, опубликованной в период написания романа, он так и формулирует, в частности, свою задачу: «Подлинно современная литература… призвана помочь сделать правильный выбор человечеству и отдельному человеку»6. Именно в ней, в этой способности, обнаруживает художественная мысль и саму состоявшуюся духовность, и ее могучую преобразующую силу. С таким трофеем можно возвращаться к «началу», что и делает автор в третьей части книги, выверяя открывшимся знанием сегодняшний день киргизского аила. В этой, конечно же, упрощенной схеме опущен существенный вопрос – об истинности того, во что истинно верят персонажи «Плахи», готовые за свои убеждения платить ценой жизни. И не отмечена происшедшая с идеей жертвенности метаморфоза, в результате которой Бостон Уркунчиев поступается не только своей, но и чужой жизнью. Об этом – дальнейший разговор. Первоисточник («Новый завет») в эпизоде «Иисус – Пилат» представляет действие четырех сил: кроме самих визави – духовной и светской власти иудейского общества (первосвященники, царь Ирод) и толпы. Литературные и философские парафразы первоисточника учитывают эту его данность, но, исходя из своих целей, акцентируют преимущественное внимание на том или ином их соотношении. Собственно, цели авторов парафраз и существо их позиции прочитываются уже из того, что ими выбрано в качестве основного объекта осмысления. Гегеля, например, изложившего историю Иисуса столь подробно, что исследователи говорят об «Евангелии от Гегеля»7, интересует, прежде всего, тип личности, не просто противопоставившей себя ситуации, но и подчинившей весь образ жизни интересам борьбы. В активе его Иисуса не только высокие идеи, но и достаточно широкий набор тактических средств. Из учеников своих он умело формирует соратников, он достаточно гибок, чтобы не дать фарисеям улик против себя, в публичной полемике с ними выигрывает одну ситуацию за другой, излагая свои глубоко продуманные притчи по всем правилам ораторского искусства – «он говорил с большой силой и выразительностью, и говорил он о том, что вызывает у людей наибольший интерес»8. Для поимки Иисуса и передачи его в руки наместника кесаря понадобились Иуда и тридцать сребреников, что свидетельствует об умении «сына божьего» позаботиться о своей безопасности в миру. Особое внимание Гегеля привлекает также среда, в противоречивые отношения с которой вступает Иисус. Он тщательно выписывает поведение толпы и ее «учителей» в сцене, предшествующей распятию; непостоянство, жестокость, цинизм толпы, беспринципную прозорливость первосвященников. Эта среда отвергает предложенный Пилатом вариант освобождения Иисуса, не удовлетворяется истязанием плетями его плоти, «шумно» требует его смерти. Заметив, что Пилат проникается все большим к нему расположением, «…иудеи выступили в роли верноподданных Цезаря, обеспокоенных лишь его интересами, – роли для них достаточно неприятной, но безусловно соответствовавшей их цели … «Если ты освободишь его, – кричали они, – ты не друг кесарю»9. «Жизнь Иисуса» – одна из ранних работ Гегеля, написанная им под впечатлением обстоятельств и результатов французской революции. На Иисуса и его среду мыслитель проецирует некоторые политические аспекты своей формирующейся общемировоззренческой системы, в частности, убежденность в том, что для реализации идей необходима серьезнейшая подготовка ситуации. В противном случае провозгласители даже самой возвышенной идеи обречены на необходимость выбора между отречением от нее и сохранением ей верности, но ценой отречения от жизни. В этом ключе осмыслена концепция Иисуса и в другой гегелевской работе – «Дух христианства и его судьба», где есть такие слова: «…Поскольку люди томились под властью иудейского духа… все модификации жизни были связаны… (Иисусу) не дано было выполнить полностью данное ему природой предназначение: он мог либо ощутить только фрагменты его, и то оскверненными, либо полностью осознать его, познав его образ как сияющее видение, чья сущность есть высшая истина; однако при этом он должен был отказаться от возможности ощутить его, претворить в жизнь, в деяния и действительность. Иисус выбрал второе, и судьбой его стало отделение его природы от мира»10. Обратим внимание и на то, что Пилат, в гегелевском изложении, хотя и совершает немало действий, от отсылки Иисуса к царю Ироду и кончая фарсом с умыванием рук в сосуде с чистой водой, на деле является однозначным исполнителем собственной функции. Линия его поведения определена положением царедворца, следящего за тем, чтобы в иудейской среде не было «ни преступления с точки зрения гражданских законов, ни угрозы для государственной безопасности»11. Пилат для Гегеля – внешний фактор, с которым ему в общем-то все ясно. Автор «Плахи» в части библейских реминисценций основное внимание уделяет встрече Иисуса с Пилатом. Есть, правда, в романе и древний «гнусный город» с его уличными толпами, «ждущими жертвы». Есть и сцена в товарняке, когда Гришан, носитель «концепции антихриста», наделенный сатанинскими чертами, по-своему «умывает руки», предлагает Авдию самому разобраться с «толпой» – переубедить анашистов; сцена, завершающаяся жесточайшей расправой над новоявленным проповедником, учиненной теми, кто только что шутил, балагурил так, что «даже Авдий невольно улыбался». Тема прозорливых жизнелюбцев, виртуозов демагогии, ищущих власти и находящих к ней доступ, одна из основных в романе. И все же главный акцент в эпизоде «Иисус – Пилат» сделан на противостоянии. В эпизоде их встречи, в языке его довольно много странно звучащих в интерьере Иродова дворца чистейшей воды славянизмов, типа «коли», «давеча», «сказывают». Должно ли это говорить о том, что диалог Иисуса и Пилата дается в восприятии Авдия? Но ведь в собственной его речи таких слов нет… Или же следует отнести их к отмеченным С. С. Аверинцевым12 случаям несоответствия в этой сцене высказанных мыслей и их языкового воплощения? Как бы то ни было, шероховатости в тексте имеются. Можно было бы не обращать на них особого внимания, если бы в них не улавливалось нечто другое, а не просто стилистическая небрежность. Мастер психологической мотивировки поступков и слов своих героев, писатель, славящийся умением предоставить персонажам свободу саморазвития, вдруг пишет: «Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай: прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайне тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам». Сомнительной ценности модификация банальнейшей мысли в первой части фразы продолжена открытой авторской характеристикой Пилата. Это жанр, скорее всего, пометок в записной книжке писателя, своего рода тезисы, которым предстоит обрести принципиально иное качество в художественном тексте. Пилат, реплики которого «оживлены» грубовато-разговорной интонацией, а образ в целом поддерживается подпорками авторских ремарок, предстает в эпизоде отнюдь не той содержательной личностью, в диалоге с которой Иисус имел бы возможность явить во всей полноте свои идеи и силу собственного духа. Он ощутимо примитивен. Адресованные ему слова Иисуса: «Ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои, греки», – конечно же, чрезмерный комплимент, явная переоценка такого Пилата, его интеллекта и образованности. Хотя он и воздает лицемерную хвалу кесарю и империи, Рим за ним никак не ощущается. Автор отсекает это, безусловно перспективное для понимания иудейской ситуации направление и вкладывает в его уста апологию военных действий, нужную ему, автору, для ассоциативной связки с современностью, с народившейся в ней «религией превосходящей военной силы». Его Пилат с армейской точностью осуществляет определенную ему функцию, хотя и с весьма ощутимыми потерями. Он вынужден поступиться излюбленной лексикой, вооружиться типажно ему не свойственными красноречием и пророческим пафосом: «В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение, в честь того будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва – ни вершка чужим не отдавать; и от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам отечества: пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с его народом, а землю отнять, – да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен…». Не все ладится с языком и у Иисуса. Реализуя свое право на ассоциативно-современное прочтение исторического сюжета, автор не может, разумеется, отказать читателю в праве на аналогичное восприятие его текста. В словах Иисуса: «Мне велят те, кого толкают ко мне притеснения, вековая жажда справедливости, – тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву» слух коробит не только современный штамп «вековая жажда справедливости», но и «удобренная, омоченная» почва. В лице Пилата Иисус имеет собеседника, удобного для просвещения его относительно ранних и более поздних идей христианского учения о спасении мира, втором пришествии, Страшном суде и т. д. Пилат задает короткие, «уместные» вопросы. Иисус отвечает большими периодами. Разговор носит характер интервью – вплоть до того момента, когда Пилат, задетый, очевидно, за живое социализированным тезисом о «Царстве справедливости без власти кесаря», взрывается апологией войны и власти силы. Этот первый и единственный развернутый монолог прокуратора заводит диалог в тупик – итог закономерный, если учесть, что в данном случае автор откровенно встал на путь его решения отнюдь не драматургическими средствами… Иисус после слов Пилата предрекает конец света «от вражды людей», которую тот восславил «в упоении державном». Далее идет впечатляющая картина опустошенной земли, явленная пророческому взору Иисуса: «…И я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека, – все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом отбушевавших пожаров, земля лежала сплошь в руинах – ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол, а я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал – вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою: куда же подевались люди, где же мне теперь приклонить голову? И возроптал я в душе своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали, вот апокалипсис, вот завершение истории разумных существ». Здесь все прекрасно выписано, язык полностью, до мельчайших оттенков, подконтролен автору, слова охотно идут ему навстречу. И это – главная мысль эпизода, о чем свидетельствуют заключающие слова Иисуса: «…Я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна». Писатель выстроил логическую конструкцию, не слишком заботясь об отделочных работах и декоре, и увенчал ее блистательным описанием негативной альтернативы будущего. Ну, а что же с позитивной альтернативой, что делать для того, чтобы она и только она стала нашим реальным будущим? В «Плахе» над этим серьезно задумывается Авдий. В состоянии «исторического синхронизма» он проходит путь, отмеченный вехами становления идей гуманизма от Иисуса до современности, но задавшись главным вопросом «к чему мы пришли?», сбивается на горький и безысходный сарказм: «И оно есть, это новое! Есть! На подходе новая могучая религия – религия превосходящей военной силы…». «Откровения» о конце света, как показал С. С. Аверинцев, впервые становятся излюбленной темой в учениях так называемых «апокалиптиков». Образ их мира сложился во взаимодействии библейского историзма, с его динамическим видением мира, и циклических концепций античного мышления. При ясном понимании рискованности сопоставления сочинений позднеиудейских авторов и произведения современного писателя, невозможно и игнорировать очевидность совпадений. «Тема апокалиптиков, – пишет исследователь, – взрыв истории и ее переход в метаисторию, последнее сражение добра и зла, и «тот свет». Когда древние пророки говорили о народах и государствах, для них еще существовал пестрый человеческий мир: для апокалиптиков красок не осталось – только ослепительное сияние и кромешный мрак. Атмосфера их сочинений характеризуется единством двух крайностей – предельной экзальтации и предельной рассудочности»13. Мир для Авдия – арена решающей схватки добра и зла, отсюда в нем ощущение призванности к определенному образу мыслей и действий: его идеи, рожденные обостренной тревогой за судьбу мира, требуют немедленного претворения в действие, которое, в свою очередь, претендует на разрешение всеобщих проблем «черного-белого» света. При наложении на живую реальность такой образ мыследействия терпит закономерный крах, поскольку экзальтированно взращенная в нем мера оценки окружающего не соотносится с собственной мерой многообразных явлений действительности. Безрезультатность практических усилий приводит к рассудочному моделированию истории, «началу» и «концу» которой уделяется особое внимание. В «начале» обнаруживается позитивное зерно (идеи добра, гуманизма), сохранность которого в современности представляется проблематичной. В качестве решающего аргумента, призванного «отрезвить» современность, создается образ негативной альтернативы – не только реальной опасности, но уже и последствий всемирной катастрофы. В «Плахе» не всегда можно с уверенностью различить, где говорит автор, а где – его персонажи. Апокалиптическое начало явно присутствует в Авдии. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить айтматовскую характеристику своего героя («…тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу…») с психологическим стереотипом апокалиптика по С. С. Аверинцеву («…очень остро чувствует историю – как боль, которую нужно утолить, как недуг, который нужно вылечить, как вину, которую нужно искупить»). Эпизод скитаний Авдия по улицам древнего Иерусалима с целью «предупредить Учителя» – нагляднейшая иллюстрация этого своеобразного мироощущения. В некоторых случаях автор специально оговаривает суверенность действий Авдия, его, к примеру, волюнтаризм по отношению к истории, диктуемый, правда, «благими порывами». Так что правильным будет отнести все «апокалиптическое» на счет Авдия. Это он, и никто другой, причина тому, что Иисус с Пилатом в идеальной для серьезнейшей беседы ситуации разыграли посредственную интермедию вопросов и ответов, так, будто единственной их целью было движение к вдохновенному пророчеству о конце света. Разумеется, так оно и есть. Иначе откуда погрешности в стиле, забвение высоких правил драматургической игры, равнодушие к проблемам Иудеи в противостоянии Риму и этот жар, напряженность интонации, окрыленность слов в последнем монологе Иисуса?.. В своем исследовании С. С. Аверинцев называет целый ряд характерных черт апокалиптической литературы, такую, например, как «влечение» ее создателей «к анонимности и псевдонимности». Но более серьезной для осмысления наших проблем является ее связь с метафизикой и мифом, с их, как он пишет, «статическими схемами». Отмечая «апокалиптическое» начало в «Плахе», необходимо иметь ясное понимание того, что не оно послужило причиной метафизичности общей концепции романа, в результате которой герои его оказываются в тупике, в безвыходном положении. Напротив, автор, еще в «Пегом псе» познавший великий искус оперирования эффектами пограничных ситуаций, закономерно пришел к нему – самому впечатляющему из всех возможных эффектов. Создан потрясающий воображение образ конца истории. Мир предупрежден о том, что будет, если он вовремя не образумится… Но что же делать Бостону Уркунчиеву? Как ему и таким, как он, как Эрназар, одолеть перевал, «ледяной Ала-Монгю»? Неужели их мечта достичь Кичибельской долины так же неосуществима, как и скорбные призывы Авдия и Акбары к Иисусу и лунной Бюри-ана посетить островок на Оке и моюнкумские степи? В пределах избранной автором художественной системы выхода для Бостона нет. Ему противостоят не только конкретные Кочкорбаев, Нойгутов и другие, ему противостоит метафизическое зло, вечное, многоликое, всепроникающее. Против него – роковое стечение обстоятельств, прихотливая игра случайностей. Да и сами случайности несут печать угрозы, предвещают недоброе. Накануне взрыва в трагическом ходе событий – убийства Акбары и Кенджеша – Бостон забывает в забегаловке игрушку, купленную для сына, и сердце его замирает в тяжелом предчувствии. Над ним нависает проклятие, действие которого он признает, хотя и не чувствует за собой вины. Дважды – после гибели Эрназара и Кенджеша – в состоянии сильнейшего аффекта он обращается к анонимной силе, «воздев глаза» к небу: «За что, за что ты меня покарал?» Символы, отлаженное оружие «мифопрозы», активно работают на всех уровнях «иссык-кульской» части романа. Это и само великое озеро, и бог ветров Шамал («всегда он недоволен и всегда что-то в себе таит»), и страшная, как зев преисподней, пропасть, поглотившая Эрназара. В парах Акбара – Ташчайнар, Бостон – Эрназар ощутимо улавливается типологическое сходство Эрназара и Ташчайнара. Мифологизированное сознание не только допускает такую параллель, но и совершает характерное для себя действие, давая Бостону возможность похоронить тело волка и как бы не оставить, тем самым, непогребенным тело друга. Бостон намеревается одолеть перевал Ала-Монгю, но «пере-вальную» молитву впервые слышит от Эрназара, да и тот ее знает «с пятого на десятое». Правильно ли мы поступаем, усматривая в великолепном художественном тексте мерцание желаемых смыслов? Но разве не на такое ассоциативное прочтение рассчитана поэтика «мифопрозы», не в этом ли особенность ее и исключительная сила, которая только в нашем ограниченном – как полет стрелы в цель – восприятии выглядит недостаточной? Мир «мифопрозы» гостеприимен, двери храма его широко раскрыты. Иначе не может и быть – ведь назначение его в том, чтобы дать приют блуждающему или отчаявшемуся сознанию, помочь ему упорядочить окружающий его хаос. Символы – идеальное средство для решения этой задачи. Их смысловая структура, рассчитанная на активную внутреннюю работу воспринимающего, хороша уже тем, что обладает исцеляющим свойством, снимая апатию и растерянность. Многозначность символа дает возможность сознанию, по мере обретения новых сил, углубиться в понимание явлений до такого уровня, где они предстают в чистоте субстанций, универсалий, категорий, абстракций, еще свободных от последующих воплощений, в том числе – и от предметности образного воплощения. Стоит ли заглядывать так далеко – вопрос, вероятно, вкусового порядка, такого, например, как выбор материала либо для частичной, либо полной перестройки. Есть не только различные уровни прочтения символов, но и различные символы: символ, взрывающий замкнутость форм для непосредственного выражения бесконечности, и так называемый «пластический символ», стремящийся вместить смысловую бесконечность в замкнутую форму. Образ символа первого типа – строитель, затеявший все перестроить заново. Второй тип явлен в символике «Плахи». Показательна в этом отношении финальная сцена романа. «Вот и конец света, – сказал вслух Бостон, и ему открылась страшная истина: весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и последней его ипостасью – младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что он видел и что он пережил на своем веку, – все это было его вселенной, жило в нем и для него, и что теперь, хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него – то будет иной мир; а его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света…» Бостон не только осознает постигшую его «катастрофу», но и признает свое поражение, признает правомерность «отделения его природы от мира». Последнее его действие на пути к «синей крутизне Иссык-Куля», в которой «ему хотелось раствориться, исчезнуть», ритуальный акт – «…закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулюка, закрепил стремена на луке седла». Так поступают в походе с конями тех, кого уже нет в живых. Бостон сломлен, и это закономерный итог пути, предначертанного ему автором. Не могла по-другому сложиться его судьба, потому что его мир оставлен наедине с реальностью, внутренних механизмов движения которой он не знает. При всем благородстве его натуры, бесспорном соответствии призванию человека на земле, при необычайном богатстве внутреннего мира, Бостон, волей автора, носитель предельно субъективного восприятия мира. Жизнь для него кончается, становится «иной», с гибелью его ипостаси – Кенджеша, ибо он сам – единственная мера бытия. Он не вписан в «тело народа», в его коллективный опыт. И в этом он – «замкнутая форма», символ состояния, но не перемен. Объективный мир для него зачастую непонятен, химеричен и именно в этом качестве по отношению к нему – агрессивен. Протест против такого мира получает крайне экзальтированную форму. Нойгутов убит, но враг не найден. Мысли Бостона о том, что он был и «Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе», слабый намек на то, что положено начало некоему самоанализу. Но символизм в данном случае переступает этическую грань, превращая в средство объективную данность – чужую жизнь: ведь не только «в себе» убивает Бостон Нойгутова, он вычленяет его из мира того же неба, той же земли и гор, которые, конечно, есть и его модификации, но обладают также собственной сущностью и имеют свои права на Нойгутова. И все же есть ли выход для Бостона Уркунчиева? … «– Вы с ним не согласны? – спросил Феликс. – Я о Камю... – Нет, – сказал Бек застенчиво, но твердо. – Я думаю, существует еще один выход... Третий выход. – Бек поправил очки. – Бороться и победить. Но для этого Сизифу пришлось бы осмыслить ситуацию, в которой он находился. – И тогда?... – спросил Гронский. – Тогда бы Сизиф обнаружил какой-то подходящий вариант. Ведь в мифах не говорится, что он дебил или идиот. Напротив ... – Бек почесал подбородок. – Он мог бы, например, закрепить камень наверху. Или подняться разок на гору без камня и там подготовить для него площадку... Да мало ли что! То есть, – скромно заключил Бек, повернувшись к Феликсу, – я хочу сказать, что Сизиф способен осознать ситуацию, а осознав – изменить. Камю об этом не подумал»14. Способен ли Бостон «осознать ситуацию»? Безусловно – способен. Ведь и о нем не сказано, что он «дебил или идиот». Но для этого ему пришлось бы стать персонажем художественной системы, принципиально другой по своему отношению к миру.
(Продолжение следует)

1609 раз
показано0
комментарий