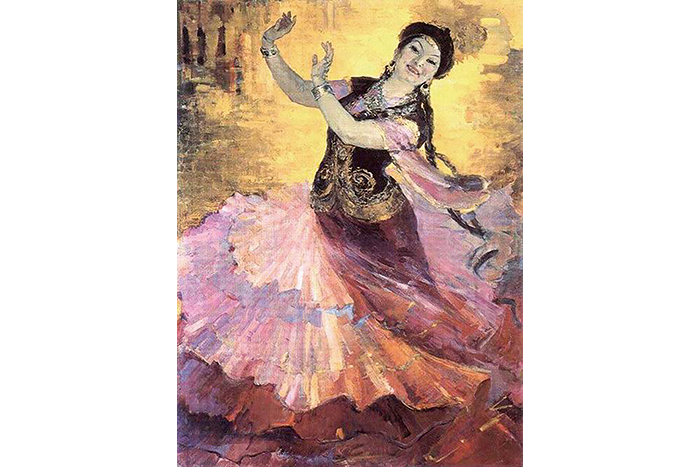- Культура
- 25 Января, 2023
ТРАЕКТОРИЯ БЛУЖДАЮЩИХ (sci-fi)

Исаак МУСТОПУЛО,
Аскар МУКАЕВ
«Все, что ни делается, – к лучшему.
Господь не только играет в кости,
но к тому же порой забрасывает их туда,
где мы не можем их не увидеть».
Стивен Хокинг
Когда все было закончено, решено, обговорено и принято к сведению, неутомимый труженик ликосианской науки Крайос торопливо занес над все еще спящим, пребывающим в добровольном анабиозе Джоном Мак-Гаффином телепортационный прибор, не имеющий земных аналогов, и с трепетом нажал на заветную кнопку, на которую заранее предусмотрительно показал Джон.
Он должен был появиться на Антиземле в определенный, рассчитанный им, момент времени и заменить Антиджона, ведь теперь они оба состоят из античастиц, а антиматерия не терпит веществ из абсолютно одинаковых антипротонов, антинейтронов и позитронов. Кто-то из них исчезнет, навсегда обратится в небытие, отделяющее настоящее бытие от иллюзорности, ощущение присутствия в мире от реального отсутствия. Если повезет, Джон из утерянной временной линии, ненужный никому отныне Джон обретет новую жизнь, найдет себя среди бесчисленного множества галактик, скоплений звезд, вселенных, где, однако, нет места для выбывших из хронологии. Но это произойдет лишь в одном случае: если гипотеза верна, математические расчеты точны, если Крайос прав; провидению, Богу или иному воплощению вселенского разума было угодно, чтобы замысел Джона оказался вполне осуществимым, даже если девяносто девять шансов из ста стремятся к нулю.
***
Вслед за звонком, который с математической точностью периодически напоминал шумно говорившим в аудитории, походившей на амфитеатр, студентам о том, что скоро начнется полуторачасовое занятие, последовала длинная лекция профессора Габриэля Кортеса. Все уселись за рабочие места, возвышавшиеся одно над другим, – это позволяло сидевшим в последних рядах хорошо видеть и слышать преподавателя, – и с завидным для посторонних глаз удовольствием принялись слушать. Кортес говорил много, часто прибегая к риторическим вопросам и остроумным фразам, с душой и знанием дела, изредка вглядываясь в сонные, но одновременно чрезвычайно заинтересованные лекцией юных лиц. Монолог профессора философии касался онтологических моментов в мифологической концепции мезоамериканских народов, вернее, самых истоков истории формирования онтологии майя, ацтеков и инков, чей неспешный ход был прерван вторжением незваных чужеземцев.
Большие пластиковые окна с висящими на них жалюзи делали аудиторию-амфитеатр просторной и светлой, что создавало иллюзию пребывания в величественном храме науки; профессору такое сравнение вполне бы польстило, порадовало его и умилило. Стены, имевшие бледно-зеленый цвет, были украшены портретами великих философов в ярких рамках: бессребреник Сократ, сопоставлявший искусство философствования путем построения дедуктивной цепи умозаключений с мастерством повитухи, соседствовал с почитавшимся профессором грузинским любителем мудрости Мерабом Мамардашвили, как-то справедливо заметившим, что философия помогает определить пределы познаваемости мира; компанию обоим корифеям составили Эммануил Кант, Бенедикт Спиноза, Рене Декарт, Григорий Сковорода и Абай Кунанбаев; отсутствие на стенах аудитории не менее значимых мыслителей мирового масштаба объяснялось элементарным дефицитом места для их портретов. На подоконниках и шкафах стояли живые цветы, а в большом горшке на полу, рядом со шкафами, красовалась высоченная пальма: столь экзотичный для учебного заведения объект присутствовал в аудитории исключительно из-за экстравагантных вкусов декана; он насаждал свое специфическое пристрастие к ботанике каждому преподавателю университета, сопровождая монотонные монологи о важности обращения человечества к экологической тематике ввиду явных признаков мести природы человеческому виду своей излюбленной цитатой: «Матушка-природа ответила нам эпидемией коронавируса и глобальным потеплением, и только растения могут вернуть ее прежнее благоволение к нам».
– Ну, мои дорогие друзья, сегодня мы поговорим о философии майя. У них не было науки в привычном для нас понимании. Причудливым образом она была переплетена с религией и нумерологией. Из тысяч книг майя до нас дошли только четыре, и все они имеют религиозное содержание: «Дрезденский кодекс», «Кодекс Гролье», «Мадридский кодекс», «Парижский кодекс». Эти четыре книги были написаны на аматле, аналоге папируса и пергамента, материалом для которого послужило южноамериканское растение амате. Но, тем не менее, сегодня мы имеем пусть приблизительное, однако в меру верное представление об их философии. Чтобы вам стала понятна глубина философии майя, достаточно сказать, что, например, нуль для них, в отличие от представлений просвещенных европейцев, был не пустотой, не онтологической категорией «ничто», как говорил Гегель, «второй дефиницией абсолюта», а началом нового, ведь он изображался в виде раковины. Известно, что улитки рождаются с раковиной, которая растет вместе с ними. В этой связи ясно, почему для изображения нуля использовался именно наружный скелет моллюска.
– Профессор, – произнесла, подняв руку, студентка Паулина, которую Габриэль Кортес как-то прилюдно назвал «жемчужиной второго курса», – если позволите, я расскажу легенду, которая демонстрирует самобытность представлений майя.
Паулина, высокая рыжеволосая девушка с зелеными глазами, любила обратить внимание публики на себя; обладая недюжинной эрудицией, искренне увлекаясь вдумчивым чтением классиков мировой философской мысли, ежемгновенно находясь в позиции мыслящего созерцателя, Паулина, словно придерживаясь известного принципа «Utile cum dulci» («Приятное с полезным»), была не прочь блеснуть интеллектом в меркантильных целях. Когда она говорила, все, кто присутствовал рядом, замолкали, приготовившись внимать всякому ее речению; каждый смаковал любое сказанное Паулиной слово, тщетно желая продлить настоящее, ограниченное, по мнению нейробиологов, тремя минутами, силясь прочувствовать образы, вдохновленные возвышенной речью девушки.
Кортес сделал еле заметный, но ощутимый боковым зрением Паулины кивок в знак согласия с девушкой; профессор принадлежал к ряду благородных преподавателей, уже успевших стать благодаря высокому интеллекту идолами студентов американских университетов и настолько отрицательно относившихся к харассменту в образовательной среде, что в присутствии молодежи подобные люди не потерпели бы даже вполне пристойных шуток о флирте между разновозрастными лицами.
– Один индеец всю жизнь хотел стать счастливым. Он пришел за помощью к филину, у которого в тот час гостили орел, ягуар, пампасный олень, лис, белка, оцелот, змея и соловей. Животные решили одарить человека всем, чем обладали они сами. Орел дал человеку красоту, ягуар – силу, лис – хитрость, белка – ловкость, оцелот – острое зрение. Змея научила человека отличать целебные травы от вредных. А соловей пообещал предупреждать о ливнях и бурях звуками своей песни. Человек ушел. Он пользовался дарами зверей, но счастья они ему не принесли. Звери же очень скоро пожалели, что сделали человека могущественным. Ибо такое сочетание качеств страшит и повергает в ужас: могущественный и несчастный.
– Или еще один пример, – продолжил нить разговора студент Ник Адамс, полный юноша-афроамериканец с шевелюрой на голове. – Профессор Кортес, наверняка, читал стихи ацтеков. Они чем-то напоминают японскую поэзию. Помню такое стихотворение:
«В сердце рождаются и прорастают
Из плоти нашей цветы.
Если иным и дано раскрыться,
То лишь затем, чтобы увянуть вскоре».
– Точиуицин Сакатимальцин, «ткущий узоры», как он себя называл. Вот какой возвышенной душой обладали мезоамериканцы, – сказал, улыбаясь, Кортес. – Какая поистине шекспировская трагедия заключена в этих небольших четырех строках, вечная трагедия человеческой души, могущественной, но несчастной. Сравните их со стандартным японским хокку:
«Жадно пьет нектар
Бабочка-однодневка.
Осенний вечер».
.– Чувствуете сходство? – спросил Кортес. – Две самобытные культуры родили столь похожих и одновременно разных поэтов. Мацуо Басе, автор этого хокку, подчеркивает ценность нашей бренной жизни. Бабочки-однодневки, как и следует из названия их вида, живут лишь один день, именно поэтому они пьют нектар жадно, не будучи в состоянии полностью удовлетвориться сладостью считанных мгновений. Люди недалеко ушли от однодневок, ибо их среднестатистические семьдесят-восемьдесят лет – тот же ненамного превосходящий по длине день. Упоминание о текущем сезоне – осени – лишь усиливает печаль автора, ибо жизнь наша подобна сопровождаемой ливнем и грязью предзимней поре. Как и Точиуицин Сакатимальцин, Мацуо Басе искусно ткет узоры светлой печали в ознаменование неизбежного увядания цветов человеческой души.
– Профессор, можно еще? – поднял руку Джереми, студент, приехавший из Калифорнии. Худощавый Джереми, хорошо игравший в баскетбол, не славился развитым интеллектом, но Кортес, зная, что первые впечатления могут быть обманчивыми, приложил массу усилий, чтобы все таланты Джереми расцвели пышными цветами.
– Я читал поэта Несауалькойотля. Он не был ни ацтеком, ни майя, я забыл, к какому народу он относился…
– Акольхуа, – подсказал Кортес, – союзники ацтеков. Еще до прихода испанцев ассимилировались с ними и растворились среди народов Тройственного Союза.
– Да, наверно... Я не очень хорошо знаю историю мезоамериканских народов, профессор Кортес.… Но я помню его стихи, они мне очень понравились.
«Нефритовые бусы
Рассыплются когда-то,
И золото исчезнет,
Исчезнет как вода.
Перо квезаля ломкое
Так тонко, так воздушно.
Нет, небо, я не верю,
Что мир не навсегда».
– Замечательно, Джереми. Как я рад, что ты оценил красоту мезоамериканской поэзии. Западная культура величественней, это показала история. И задолго до зарождения мезоамериканской цивилизации в Евразии уже были шумерская, греческая, египетская культуры. Цивилизация мезоамериканцев проиграла испанцам большую часть военных сражений, уступив место европейским завоевателям, но даже по дошедшим до нас фрагментам рукописей тамошних писателей, крупицам растерянных алмазов, видно, что их культура глубже западной. Появившись на три тысячи лет позже шумеров, в первом тысячелетии до нашей эры, – говорил живо, сверкая глазами, Кортес, – отцы мезоамериканской цивилизации ольмеки, шумеры Нового Света, дали древней Америке истоки письменности, урбанизации, мифологии, философии, астрономии и литературы. Только представьте себе, когда в Иудее родился Иисус, в это же время в Мезоамерике строились первые города и пробовали перо ранние писатели Нового Света. Да, они отставали от евразийских народов на тысячу лет, а может, и больше, ведь Иерихон уже тогда считался древним городом, а до Гомера так и не дорос ни один мезоамериканский поэт. Но будем справедливы: не имея перед собой пример для подражания, ольмеки двигались вперед семимильными шагами. Рождению шумерской цивилизации способствовали плодородие почвы, удобной для земледелия и скотоводства, богатые залежи меди и засухи, в борьбе с которыми шумеры приобретали высокую цивилизованность. Культура ольмеков рождалась в сходных условиях. Плодородие почв, создаваемое приливами реки Коацакоалькос, мезоамериканского Евфрата, растения, способные давать нужные для жизни витамины, залежи меди, которая здесь применялась меньше, чем в Старом Свете, все эти факторы обусловили возникновение мезоамериканской цивилизации. Да, мои дорогие друзья, той самой цивилизации, что подарила нам прекрасные поэтико-философские трактаты Несауалькойотля, вполне достойные пера Аристотеля.
– Профессор Кортес, – сказала Паулина, – извините, что перебиваю, но я вспомнила, что инки раньше Эйнштейна, Минковского и Пуанкаре додумались до гипотезы пространственно-временного континуума. Они называли его «пача» и считали, что пространство-время бесконечно. Когда испанские священники говорили им о скором конце света, инки отвечали: «Пача не может иметь конца».
– Великолепно, Паулина, – сказал, хлопая в ладоши, Габриэль Кортес. – И разве можно после всего этого говорить, что у мезоамериканцев была отсталая культура?
Получив в ответ восторженные аплодисменты второкурсников, которым подобные занятия заменяли телевизионные интеллектуальные шоу, профессор Кортес, живущий в Соединенных Штатах латиноамериканец, чьей слабостью был пиетет перед философией мезоамериканцев, продолжил знакомить студентов с достижениями аборигенов Южной Америки. Студенты, горячо любившие живые лекции Кортеса, который благодаря ораторскому дару и искренней увлеченности тематикой бесед выгодно выделялся на фоне неразговорчивых, имеющих страсть к подглядыванию в шпаргалки, преподавателей, усердно записывали самые важные фрагменты в свои тетради и планшеты.
– На сегодня лекция закончена. К следующему занятию прочитайте труд Мигеля Леон-Портилья «Философия нагуа. Исследование источников». Автор этой книги один из первых обратил внимание на наличие белых пятен в мировой философии. Без этой работы мы бы не знали о важном философском пласте мезоамериканской культуры. Выше названный Несауалькойотль был не только поэтом, но и тлатоани – правителем акольхуа. Мало кому из рядовых читателей известно, что он был еще и тламатини – философом, мезоамериканским Сократом, создавшим местную философскую школу, из которой вышел другой выдающийся тламатини Тлакаелель, брат и советник императора ацтеков Монтесумы Первого. Жду от вас эссе о философии и поэзии Несауалькойотля, не менее пяти страниц. На сегодня все. – Габриэль обычным жестом – взмахом левой руки, в закрытой ладони которой будто притаилась дирижерская палочка, – закончил лекцию и положил свой планшет с загруженными в него конспектами лекций в экосумку – модный в свете происходящих с планетой катаклизмов аксессуар.
В лекционной поднялся шум – обычный для университетской среды, – шум, присущий веселым, умным, дышащим бодростью, свежестью и энергией прилива молодости людям; душа человека в этом возрасте бурлит от будоражащих ее идей, хочет подвигов, протеста и понимания; это про таких людей политик Уинстон Черчилль сказал: «Если к двадцати годам вы не были левым, значит, у вас нет сердца. Если к тридцати годам вы не стали консерватором, значит, у вас нет разума». Сто двадцать студентов, целый поток второкурсников, будущих философов, с неизменным, присущим только им, безудержным гвалтом, вышли из светлой и просторной аудитории-амфитеатра, имевшей высокий потолок; вторым героем дня, помимо профессора Кортеса, была, естественно, Паулина, которая, не скрывая удовольствия, с жадностью нарцисса ловила восхищенные взгляды мужской половины курса. Полтора часа интересного, но вместе с тем и изнуряющего, занятия утомили не только студентов, но и самого Габриэля; пот с него струился градом, при этом следовало учитывать нестерпимую жару на улице, вопреки защите кондиционеров беспрепятственно царствующей в учебных корпусах университета. Каждая лекция давалась ему все труднее, несмотря на волны, привнесенные в душу солитонами энергетического цунами; студенты воздействовали на него как зарядное устройство, заряжающее аккумулятор внутри его разгоряченного блужданием мыслей мозга; когда лекция заканчивалась, аккумулятор садился, и требовался новый источник энергии – горячительное. В голосе преподавателя уже не было той былой поистине богатырской мощи, которой он завораживал толпу студентов и магическим, поттеровским способом заставлял их слушать себя; в свое время, еще до развода с женой, подорвавшего его психическое здоровье, Кортес был Голиафом, Поддубным и Дуэйном Скалой Джонсоном в одном лице, только, разумеется, не в большом спорте, к которому Габриэль никогда не имел интереса, не считая спорадических занятий плаванием в стиле баттерфляй, а в преподавательской деятельности. Это был бог педагогики, божество без алтарей и культа, но с ордой истинных фанатов философии; его сверхъестественно громкий голос разносился по университетской кафедре, сотрясая пол и стены философскими диспутами, по сравнению с которыми поединки Сартра с французскими студентами казались играми в песочнице; здесь Кортесу не было равных, не существовало еще того смельчака, что бросит ему в лицо перчатку; теперь же от прежнего Кортеса осталась имитация минувшей кипучей жизнедеятельности; ныне он работал исключительно ради оплаты счетов.
Смуглый, темноволосый, большеглазый, с прямым носом, Габриэль Кортес ничем не отличался от чистокровных родовитых потомков знатных испанцев, наводнивших Южную Америку при Кортесе и Писарро, никогда не смешивавшихся с индейцами и африканцами и передавших многим современным мексиканцам, колумбийцам, кубинцам и перуанцам чисто испанскую внешность.
Очередной скучный и однообразный день, очень похожий на день сурка из известного фильма Гарольда Рамиса с Биллом Мюрреем, позади; труд по инерции, труд по необходимости выполнен в соответствии со всеми возможными нормами, но от этого на душе вовсе не легче, а совсем наоборот, тяжело и тоскливо. Габриэль вспомнил, как после прочтения «Братьев Карамазовых» он развил мысль одного из героев: все это уже много раз повторялось – рождение, блуждание в потемках биографии, смерть, снова рождение, снова тропинки в пустыне жизни, где все то же самое, то бишь акриды, соблазны беса, ставящего тебя на скалу перед царствами мира, и долгий монолог Инквизитора, имя которому на самом деле Бессмысленность бытия. Когда-то прочел он у Льва Толстого описание дежавю: маленькому Льву показалось, что этот настоящий момент, легко и незаметно переходящий из прошлого в грядущее, уже повторялся, много-много раз, миллионы лет подряд. А что, если и вправду, был Большой Взрыв, породивший время и три остальных параметра континуума, а до Большого Взрыва была череда таких же больших взрывов и больших сжатий, а в промежутках между ними многократное повторение мировой истории? Был Кортес на свете, и не однажды, а миллион раз, потому что вся история от начала до конца копирует себя, а вот атомы наших тел все помнят, отсюда и дежавю, по меткому выражению Бергсона, «воспоминание о настоящем», приступы памяти наших с вами атомов. Хотя, например, Митио Каку считает иначе: по его мнению, дежавю возникает тогда, когда параллельный мир неожиданно пересекается с нашим, и вы на мгновение заимствуете ощущение своего двойника-доппельгангера из другой вселенной; возможно, сооснователь Теории струн прав, и наш мир в самом деле часть мультиверса, в котором можно время от времени приоткрыть окно в соседний мир.
Солнце уже было в зените, ветер дул со стороны парка, приносил свежий воздух; Кортеса окружали зеленые лужайки с аккуратно подстриженными кустарниками, каждый угол кампуса с легкой руки декана, ярого фаната флоры, был украшен необычными композициями из кустов и цветов редкого сорта. В кампусе Корнельского университета города Итака в штате Нью-Йорк кипела, била ключом, жизнь, все куда-то спешили, торопились безудержно смаковать эликсир бренного существования; невдомек было людям, что все это уже многократно повторялось, уже не единожды перед глазами проходила тривиальная последовательность одних и тех же действий, блуждание по эллипсоиде. Некоторые студенты вышли на пробежку, кто-то разминался на спортивной площадке; молодость в сильных телах, всегда готовая вслед за Кубертеном, пропагандистом и основателем современных Олимпийских игр, воскликнуть: «О, спорт, ты – мир!!!», рвалась наружу, невозможно было удержать ее в стенах университета, ведь не только одной духовной пищей жив человек; вспомним, что и Платон был чемпионом по панкратиону. На лестничной площадке у входа в библиотеку пятеро студентов напевали песни в стиле «а капелла», проходящие мимо неизвестно откуда взявшиеся монахини тихо шептали: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да прибудет воля твоя, как на небесах, так и на земле»; Кортес, имевший сложные отношения с Богом, не слышащим из-за музыки сфер в божественных наушниках мольбы страждущих, неприятно поморщился, состроил гримасу, подумал о том, что уже много лет не ходит по воскресеньям в католическую церковь, и почему-то вспомнил интерпретацию ангелом Локи из фильма Кевина Смита «Догма» детского стишка из «Алисы в Зазеркалье». Морж-жизнелюб, по мнению Локи – Будда или Ганеша, плотник – конечно же, Иисус, а устрицы – доверчивые адепты религий, которые представляют собой ничто иное как учреждения, созданные с целью обмануть и завести очередного простака в сети иллюзий; битлы, незабвенные короли рок-н-ролла, ливерпульская четверка, когда-то по поводу этого стишка спели следующее:
«Yellow matter custard, green slop pie,
All mixed together with a dead dog’s eye,
Slap it on a butty, ten-foot thick,
Then wash it all down with a cup of cold sick».
Все вокруг казались такими жизнерадостными, все, кроме Габриэля: монахини, принявшие обет молчания, спортсмены, служащие спорту как Богу, певцы-любители, поющие без музыкального сопровождения; а ведь это все символично, подумал Кортес, мы все только и делаем, что молимся тому, кого не видим, бегаем и тягаем тяжести, хотя все равно состаримся и умрем, поем на улице и в душе (и тут Кортес невольно вспомнил эпизод с поющим в душе сотрудником похоронного бюро из фильма режиссера-философа Вуди Аллена «Римские приключения»), но при этом не попадаем в такт и зачастую фальшивим; мы всегда имитируем, делаем вид, что живем. Кортес не замечал, вернее, не хотел замечать всю красоту, что его окружала: зелень парков, щебетание беззаботных птиц, игры детей на футбольных площадках, маски на земле у скамеек – привет из недавнего прошлого, когда все города мира были охвачены невиданной доселе эпидемией коронавируса, и люди месяцами ходили на работу в одних и тех же несменяемых масках.
Кампус университета, где работал Кортес, располагался в долине Пальчиковых озер, на Восточном Холме; оттуда взору был открыт потрясающий вид на окрестности, в том числе на озеро Кэйюге. Реки двух каньонов – Фолл-Крик-Джордж и Каскадилла-Дордж, – находились на границе кампуса; Кортес предпочитал добираться от кампуса до дома пешком; он уже десять лет как сдал экзамены на вождение, однако его старенький «форд» томился в гараже; из-за призывов Греты Тунберг и ей подобных экоактивистов Габриэль решил снизить свой углеродный след, чему очень способствовала пешая прогулка.
– Добрый день, профессор Диас! Как прошли ваши занятия? – спросил проходивший мимо Габриэля студент Джон Мак-Гаффин, беспечный молодой человек, часто игнорировавший лекции и предпочитавший им практические занятия. Выглядел он сегодня странно, к тому же прогулял лекцию Кортеса, чего Габриэль никогда не прощал студентам; в былые дни его безмятежной семейной жизни, изредка омрачавшейся ссорами с женой, Кортес любил произносить в присутствии прогульщиков весьма едкую фразу: «Единственной уважительной причиной пропуска является ваша смерть».
– Спасибо, неплохо, – фальшиво улыбнувшись, ответил Габриэль. – А где вы сегодня были, молодой человек? Почему не присутствовали на лекции?
– Я… – замялся Джон, невысокий юноша лет двадцати в очках, с неизменно болезненным видом, – я вчера был в гостях и приехал поздно. Так что не смог вовремя проснуться.
– Бедный Джон! И родители вас не разбудили?
Джон отрицательно помотал головой; Кортес поискал на его лице мимику, которая могла бы обозначать извинение, но не найдя ее, нахмурился: он, конечно же, уже не тот энергичный преподаватель, каким был раньше, но в пороховницах еще есть порох.
– Ну, так вот, молодой человек. Принесете в деканат объяснительную, иначе не допущу к зачету.
Джон промолчал, пропустил взглядом удалявшегося от него профессора Кортеса, а сам, поглаживая пальцами лоб и создавая поднятием бровей горизонтальные морщины – как сказали бы несколько лет назад: играя бровями, – подумал: «Господи, я попал не в тот момент своей жизни». Кортес кивнул головой студенту, сделал наклон вперед, и пошел дальше по тротуарной дорожке, уверенно направляясь в местную кофейню – излюбленное место отдыха его коллег. Четверг Габриэля – это последний рабочий день; после же он не знал, что ему делать: можно почитать книгу, но на полках все зачитано до потертых корешков, можно посмотреть фильм, но ничего стоящего за последний год в связи с недавней эпидемией не выходило, а фильмы прошлых лет Кортес помнил покадрово. Целых три дня выходных, которые ему предстоит на что-то потратить, казались для него мучительным бременем; это его раздражало, мучило, выводило из себя, напоминало о разладе с супругой.
– Пятница, напьюсь. Так, суббота, суббота, поболит голова... Выйду на улицу... – вслух рассуждал Габриэль.
– А в воскресенье? – женский голос, прозвучавший позади, заставил Габриэля не только испугаться, но и резко обернуться.
– Боже, Аманда, ты так до инфаркта можешь довести!
– И тебе тоже добрый день! Так что там в воскресенье?
Аманда улыбалась и внимательно вглядывалась в уставшие от мыслей, беспокойно бегавшие глаза Габриэля, который не знал куда смотреть: на груди Аманды, на проходящих мимо людей, себе под ноги или на абстрактное «ничто», о котором обмолвился словом на сегодняшней лекции; только вот какое «ничто» – Гегеля или Сартра? Аманда была среднего возраста; ее рыжие кудрявые волосы спадали до плеч; о таких женщинах обычно говорят, что они привлекательны, с ними весело и интересно, но семейное счастье в их компании обрести чрезвычайно трудно. Легкая летняя рубашка, белые джинсы-слим, стильные туфли телесного цвета; она была преподавателем истории, что не мешало ей выглядеть как дизайнер-стилист. Это изрядно сбивало с толку Габриэля – он не знал, смотреть ли на груди Аманды, которые виднелись из-за глубокого выреза ее рубашки, или на ровные, накаченные утренними пробежками ноги, но только не в ее голубые, как два океана, глаза, отдававшие искрами и словно сверлившие собеседника насквозь.
– Я еще не решил, что в воскресенье, в конце концов, можно пойти и утопиться.
Это прозвучало без всяких эмоций, будто он прочел мантру во время медитации или, заснув на мессе, пробормотал вслед за пастором обрывки воскресной молитвы; мы часто произносим страшные вещи, не подумав об их значении и способности слов самым причудливым образом отражаться в сознании людей. Говорят, что прошлого на самом деле не существует, поскольку его запоздалое восприятие субъективно: два человека, бывшие очевидцами одного и того же события, расскажут о нем по-разному; ваши фразы будут восприняты иначе, чем вам хотелось бы, точно так же как любое событие можно представить с разных точек зрения; вот именно поэтому прошлое иллюзорно, его как будто и не было, раз оно воспринимается неоднозначно.
(Продолжение следует)

1392 раз
показано0
комментарий