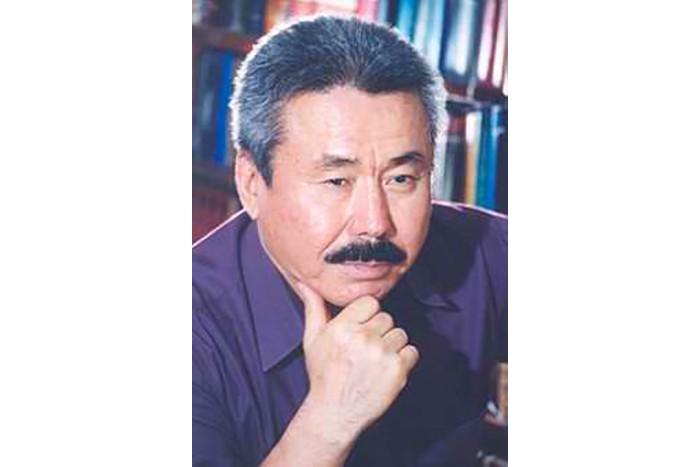- Исторические страницы
- 28 Апреля, 2020
НАБОКОВ И ПОТУСТОРОННЕЕ

Александр Кан, писатель
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
Говоря о подземном царстве Владимира Набокова, мы никоим образом не должны забывать об его отражении или царстве света, в котором обитают многочисленные герои автора, распорядившиеся со своей жизнью не так скоропостижно, как сделал это со своей герой романа «Соглядатай». Попросту говоря, продолжим решение школьной задачи: если набоковский путник вышел из пункта А и пришел в пункт Б, то, что происходило с ним за пунктом Б, то есть «после смерти» мы попытались объяснить в первой части нашего размышления. Но что же, возникает вопрос, происходит с героем после пункта А, или между начальной и конечной точками, – на пешеходном отрезке живого человеческого существования, – что происходит с героем после его рождения? Обратимся к рассказу Владимира Набокова «Картофельный Эльф», на мой взгляд, рассказу уникальному в ряду блистательных рассказов автора, и об его уникальности мы скажем позже, набрав достаточное количество доказательств, подтверждающих наш тезис. В первую очередь, нас интересует герой «Картофельного Эльфа», собственно сам Картофельный Эльф или карлик Фредерик Добсон, всю свою жизнь выступавший в цирке... впрочем, предоставим слово автору: «Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти килограммов, а рост его превышал лишь на несколько сантиметров рост знаменитого швейцарского карлика Циммермана, по прозвищу Принц Балтазар. Как коллега Циммерман, Фред был отлично сложен и – если бы не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да еще этот общий немного жутковатый вид напряженности, словно он крепился, чтобы не расти, – карлик бы совсем походил на тихого восьмилетнего мальчика». Описание Фреда Добсона немедленно погружает нас в некое странное состояние, скажем так, взвешенности по отношению к герою, ибо карлик – оставим в стороне его мифологический контекст – в силу своей инаковости, физической отличности представляется нам пришельцем из другого, миниатюрного мифа, о существовании которого мы как бы и не подозреваем, потому что попросту не замечаем его. В то же время в этом «нижнем» мире, обитающим под нашими ногами, существуют дети, непрестанно взирающие на своих отцов, матерей, старших братьев и сестер, и, вероятно, мечтающие о том времени, когда они станут такими же большими и статными. Введем в наше размышление художественную категорию физического роста-времени, ибо человеческое существование в художественном пространстве набоковского текста объемно и требует соответствующих пространственных координат. В отличии от детей, которые могли представлять себя взрослыми и статными, наш герой не смел об этом и думать, а если и смотрел на окружающий мир, то как-то сбоку, искоса, словно и не видя его, – причем всегда снизу вверх. Отметим очень важную установку для нашего размышления: очевидно, у карлика Добсона существовало как минимум три времени: 1. Первое время, время внешнее, для самого субъекта трансцендентное, обусловленное тем начальным впечатлением, которое производит на нас его – карлика – внешний вид. Время это нереальное, фальшивое, сложенное из наших поверхностных впечатлений: то ли карлик, то ли ребенок, в общем, «тихий восьмилетний мальчик», как и повествует Автор в начале рассказа. 2. Время второе: психофизическое, – да, было ему двадцать лет от роду, но никто и не подозревает об этом из людей посторонних, не существующих рядом с Фредом Добсоном и – следовательно не интересующихся его жизнью. 3. Время третье, время глубоко внутреннее, – время сознания героя, определяющееся трактом движения его памяти, в сущности, время истинное, и составляющее существо, содержание человека, тем более скрыто от чужих глаз, – время нежное, чуткое и хрупкое, время ранимое, развивающееся по каким-то тайным, отнюдь не поступательным законам, время неосязаемое и в то же время материальное, – вплоть до того, что имеет смысл говорить в данном случае о веществе времени: пока еще вязкая, внешне неподвижная масса, еле заметно вздрагивающая от внутренних, глухих, не имеющих выхода, толчков. «Жизнь его шла по кругу, мерно и однообразно, как цирковая лошадь. Однажды в потемках, он споткнулся о ведро с малярной краской и мягко в него плюхнулся. Он потом долго это вспоминал, как нечто необыкновенное. «Вот вам и толчок. Вот вам и неподвижная пока еще масса. Пока». Вероятно, теперь мы может утверждать, что герой наш как раз соответствует выбранному нами отрезку пути: «после рождения», ибо в данном случае мы пользуемся временем первым, внешним, – таковы правила жизни и художественной игры, а также, что очень важно, временем третьим, метафизическим: «жизнь шла по кругу». Следовательно жизни как таковой еще не было: путник только выходит из отправного пункта, точнее, пока еще стоит в ожидании какого-то внешнего толчка, – движения, которое никак не захлестнет его, проносится над его головой, никак не задевая планки его существования, и в этом состоянии – парадоксальным образом заключается нечто охранительное, сообщающее субъекту, быть может, мучительный, но все-таки покой, который через несколько мгновений рассказа безвозвратно нарушится.
ТОСКА ФРЕДА ДОБСОНА
В контексте творчества Владимира Набокова нам прозрачнее всего следовать его же энтомологическому принципу, который сознательно или совершенно неосознанно применяется автором в текстах. Приведем пример из рассказа «Рождество», в котором герой Слепцов, мучительно тоскуя по погибшему сыну, с трепетом осматривает его комнату, вещи, листает и читает дневник, рассматривает коллекцию его бабочек, – все, что оставалось от сына. «Оно (существо, из которого впоследствии рождается бабочка. – А. К.) вылупилось от того, что изнемогающий от горя человек, перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось от того, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло.» И после: «И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.» Смерть сына сменяется рождением одной из бабочек, которых он так нежно и бережно собирал, – обнаженная земная жизнь, казавшаяся Слепцову «горестной до ужаса, унизительной, бесцельной, бесплодной и лишенной чуда, вдруг животворно воплотилась в этом маленьком чуде, вздохнувшем крыльями в порыве почти человеческого счастья. Схема: тело-внутреннее рождение-трение-борьба-высвобождение-пустой кокон – вполне применима в нашем случае. Итак, оболочка, кокон Фреда Добсона еще не раскрылся, еще не наступил тот теплый климат, в котором могло бы произойти желанное высвобождение, но автор уже подводит нас к началу истинного движения Фреда Добсона. Нора, жена фокусника, его напарника Шока, приютившая карлика после того, как его обидели в цирке, застав в компании игривых сестер-акробаток, становится объектом его любовной тоски, не знающей выхода из его темной, герметично запаянной его инаковостью, оболочки. Прежде чем говорить о любви Фреда Добсона, мне бы хотелось остановиться на таком важном аспекте набоковских произведений как – назовем это первыми, приходящими на ум словами – существующий институт труверства в эмоционально-художественном пространстве автора. Во многих его произведениях тщательно просматривается фатальная невозможность героев обрести истинную взаимную любовь. Прежде всего по причине столь же фатальной невозможности воплотиться в собственной душе и сознании: любовь призраков нереальна, как сами призраки, герои Набокова поневоле становятся трубадурами, обреченными посылать в мир свои безответные призывы. Да и у самого автора нет-нет, да прорвется крик человека, который уже не в силах сдерживаться и облекать горестное трубадурство в художественные формы: «Моя жизнь – сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет» (Из памяти Л. И. Шигаева»). Очевидно, в момент встречи Добсона с Норой опыт его общения с представительницами прекрасного пола совсем невелик и отнюдь не прекрасен: «Некстати, вспомнилась ему пятнадцатилетняя карлица, с которой он где-то выступал вместе. Карлица была востроносая, больная, злющая, публике ее представили как невесту Фреда, и он, вздрагивая от отвращения, должен был танцевать с ней тесный танго». Вот и наглядный пример вынужденного – здесь в буквальном смысле – контакта с подобным тебе, и все это на фоне раздражающегося зрительского смеха, удвоенные мучения Фреда Добсона: отвращение к ближнему, отчаяние по отношению к дальнему, и тут-то мы понимаем, к кому направлена любовная тоска карлика, – не к какому-то конкретному адресату, а к целому миру с «нормальными» людьми, – стать одним из них, так вероятно мечталось Добсону, стать одним из тех, для кого не существует «той безликой бездны, вечно смеющейся над ним». И конечно же, Добсон влюбляется в Нору, не понимая существа своей тоски, так не может понять этого никто, ибо чувство должно очеловечиваться, и трубадурство с равным успехом может рассматриваться как аскетический гимн одиночеству, так и как высокое чувство высочайшей пробы. После близости с Норой карлик, переполняемый благородными чувствами, ищет встречи с фокусником Шоком. Фокусник Шок – замечательная и знаменательная фигура не только в данном рассказе, но и во всем творчестве Владимира Набокова, – густо воплотившая в себе все обязательные черты других героев Автора. Мы намеренно не говорили о нем ранее, ибо Шок как яркий и емкий образ, как, если хотите, символ Набокова, заслуживает отдельного рассмотрения. Что же касается объяснения с Добсоном, такого важного для впервые полюбившего человека, то разговор их естественно обращается фокусником в очередной фокус, один из тех, маленьких больших, которые совершал Шок в своей жизни с легкостью, радостью, горечью... никогда не задумываясь о возможных последствиях.
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ШОКУ
Прежде чем говорить о фокуснике Шоке, необходимо обрисовать дом Владимира Набокова со всеми его постояльцами и хозяевами, – а существует ли вообще у Автора понятие «хозяева»? – тесно толкающимися в комнатках и коридорах, выстроенных писателем, упорно не замечающими друг друга и даже самих себя. И начать надо, вероятно, с целого абзаца, которым заканчивается рассказ «Облако, озеро, башня», поражающего своим совершенно обнаженным, откровенным смыслом, таким, что определенная декларативностью его изложения, в сущности, совершенно не свойственная автору, воспринимается как художественно правомерный метод: «По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется». Вероятно, мы слишком забежали вперед в нашем страстном желании подвести черту под героями Набокова, ведь в этом откровенном заявлении нет мест для каких-либо комментариев и дополнений. Но что же все-таки было до этого, когда не возникало у обитателей набоковского пространства такого окончательного желания, точнее, нежелания быть человеком, – что же было с ними, являвшимися когда-то людьми? Говоря по сути, в жизни любого набоковского персонажа самая главная измена* уже произошла, и потому по свойственным каждому истинному сочинителю стремлением довести все до предела Набоков продолжает эти ужасные опыты над своими героями, накрывая их с головой очередными изменами, словно испытывая их на разрыв, на деформацию, на прочность. Я как-то специально подсчитывал, а потом все-таки бросил это занятие, сколько в произведениях Автора насчитывается супружеских измен, причем измены эти не несут какого-либо адюльтерного аромата, – все механистично и буднично, как, к примеру, ходить каждый день на работу, так вот могу с полной уверенностью заявить, что практически в каждом рассказе измена надвигается на героя, как пьяный советский грузовик, или проходит тенью, задумчивым облачком, но так, что солнце исчезает навсегда. Логически все убедительно и правомерно: раз была совершена основная, великая как библейский потоп измена, то согласно обнаженной логике жизни следом должны идти новые измены, изменки, изменища, будничные и праздничные, изощренные и примитивные, уже необходимые обитателям набоковского города как глоток загазованного воздуха, автор в этом – повторяю! – совершенно последователен, точно задался целью выхолостить в каждом герое что-то животворное, теплое и влажное, стерилизовать его непрерывными страданиями, а потом, после боли, приступов, припадков – заглянуть в свой черный ящик: живы ли его постояльцы и жив ли – главное – он сам. Эти попытки спасения болью от боли, – чем хуже, тем лучше, этакая непрерывная шокотерапия, когда без боли уже нельзя, когда каждый мгновенный продых для себя и своих героев воспринимается автором как малодушная возможность заразиться слишком человеческим, – как уют в комнате, из которой тебя все равно выгонят, в дождь и мороз, – как смертельное нарушение правил его игры. И надо признаться, Автор добивается своего, все наше размышление лишь тень его мировоззренческих экспериментов, в Доме Набокова блуждают, словно загробные тени, полулюди-полупризраки, несчастные, вечно носящие траур по неслучившемуся, – все, в сущности, великовозрастные обитатели забытого Богом детского дома, когда уже выходить из этого казенного учреждения нет ни смысла, ни желания, ни возможностей, да и в конце концов куда идти? И здесь необходимо вспомнить очень замечательный в контексте нашего размышления рассказ «Terra Incognita», где герой уже в полубреду, в пространственных переходах и смещениях вдруг совершает следующее открытие: «Но внезапно, на этом последнем перегоне моей смертельной болезни – ибо я знал, что через несколько минут умру, – так вот в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, я понял, что происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице – обои, кресло, стакан с лимонадом, я понял, что назойливая комната, – фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия.» Именно в меблированных комнатах небытия оказываются многие герои Владимира Набокова в конце своего мучительного пути, и если кое-кто из них все еще ощущает себя живым или полуживым, то полную потерю собственной материальности, телесности, осязаемости демонстрирует собой фокусник Шок, по направлению к которому – так получается – нас и вел автор. Прозрачен набоковский прием: Шок – фокусник и следовательно ему все позволяется – любые фокусы и невероятные превращения, – он здесь и там, он есть и его нет на самом деле. О, что там соглядатай! – всего лишь нерадивый ученик учителя Шока, мучающийся от собственного ученичества, совестливой некомпетентности, от посторонности, пограничности, выведенности из контекста, – Шок даже и не думает о собственной нереальности, узаконенной его профессией: его нереальность настолько реальна, что даже Нора, его жена, самый близкий ему человек, никак не может ощутить его присутствие в своей жизни. «Мудрено быть счастливой, когда муж – мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств». Показательная сцена объяснения Норы с Шоком после ее измены с карликом. «Нора в этот вечер ждала его с особым нетерпением, трепеща от дурной радости. Радовалась она тому, что теперь и она имеет свою тайну. Самого карлика не хотелось вспоминать. Карлик был неприятный червячок». Знающий заранее о случившемся – фокусник всегда знает обо всем – Шок во время семейного обед пытается отравить себя, как он сам утверждает, выпив яду. Шок изображает предсмертные мучения, и никто – ни мы, ни Нора – не знает, что случится с ним через несколько минут. «Жила вздулась у него на лбу. Он еще больше скорчился, заклокотал, потряхивая потной прядью волос, и – платок, который он судорожно придавил ко рту, набух бурой кровью.» Наконец, Нора сдается, начинает метаться по комнате: искать какие-то лекарства, звонить врачу – спасти, спасти человека, которого она на самом деле самозабвенно любит, мечется, выбегая из спальни, где мучается в конвульсиях и, кажется, уже догорает несчастный Шок, – в комнату, опять к телефону, рыдает в трубку, обратно в спальню и вдруг новый поворот: «Фокусник, светлый и гладкий, в белом жилете, и черных чеканных штанах, стоял прямо перед трюмо и расставив локти, осторожно завязывал галстук. Увидя в зеркале Нору, он, не оборачиваясь, рассеянно улыбнулся ей и, тихо посвистывая, продолжал теребить прозрачными пальцами черные шелковые углы.» Вероятно, это крайний предел, до которого могут добраться герои Набокова, ведь многим из них, если отбросить в конце концов в сторону все фокусы, удавалось умертвить себя, тем самым как бы доказывая свою земную реальность. Здесь же становится ясно, что Шок в свои вечных ежеминутных фокусах и превращениях фактически не способен, несчастный, – или счастливый? – совершить нечто окончательное, совершить нечто в принципе совершаемое, и значит, в контексте нашего размышления его можно считать неким идеалом мужчины по Набокову, венцом всех последовательных авторских испытаний. Да: Шок – идеальный призрак, непобедимый, независимый и самодостаточный, вечная тайна тайн, истинный обитатель всех поту- и посюсторонних миров, поэт, парящий над земным миром вымыслов, призрак, блистательно воплотивший тот призыв, с размышления о котором мы и начали эту главу: нет больше сил быть человеком и не надо! – говорит Шок, никаких проблем, и теперь становится ясно, куда отпускают героя рассказа «Облако, озеро, башня», – именно по направлению к Шоку, мимо зря мучающихся, мимо зря корчащихся в своем одиночестве персонажей Набокова, – мимо слишком чуткого и живого Фреда Добсона, уже познавшего первую горечь своего обманутого чувства.
ИСПЫТАНИЕ
Пока свежа наша память о фантастическом Шоке, пока призрак его еще парит перед ним, саморасцвечиваясь, самопоявляясь и самоустраняясь, выясним отношения между ним и его напарником Добсоном. Нагляднее всего выстроить эти отношения в соответствии с моделью их общего циркового номера: «Картофельный Эльф ему спешно прислуживал, а под конец – с радостным воркующим возгласом появлялся в райке, хотя за минуту до того, все видели, как фокусник его запирал в черный ящик, стоявший посреди сцены.» Уже после окончательного расставания с Норой, после ухода из цирка, Фреду, заточившему себя в одиноком доме на краю Англии, часто вспоминался этот их общий цирковой номер и иногда снился ему, но уже с другим, мучительным и болезненным исходом: выползая из ящика, «Фред никак не мог найти люк в полу и уже задыхался в клейком сумраке, – а голос фокусника становился все печальнее, удалялся, таял...». В сущности, принеся карлика к себе домой, Шок запер его в другой черный ящик с этаким узким лазом, – в настоящий – по Добсону – мир, по которому он так мучительно тосковал. Ощутив прилив счастья, длившийся всего один солнечный лондонский день, Добсон опять был вынужден ползти по этому черному ящику, судорожно нащупывая люк в полу, и Шока в самом деле уже не было рядом. Если согласно схеме инициации инициируемый герой проходит испытание, попадая к какому-нибудь чудовищу, – к примеру, заглатывается им, то в нашем случае Добсон, за которым заперли дверь, оказался в некоем «тесном клейком сумраке», также своеобразном логове чудовище, имя которому мы пока не знаем. С другой стороны, спрятаться обратно, в собственную оболочку, в собственный покойный мир, лишь иногда раздражаемый приступами любовной тоски, не было никакой возможности, ибо территория Фреда Добсона была вероломно разрушена, разорвана, разгерметизирована холодным отказом Норы. Таким образом, неофит Добсон с начала этого своеобразного испытания потерял, а точнее, утратил собственное тело-пристанище, которое кто-то заменил ему на другое – на узкий черный проход в духе их общего циркового номера. Утрата тела во всех смыслах этого понятия – утрата безвозвратная и необратимая, трагическая, ведь многие герои – опять же характерная деталь – Набокова, в сущности, не имеют своих тел, точнее, как бы имеют, но где-то в стороне, почти рядом, – таскают их за собой на привязи, как большую старую больную собаку. Смещения пространственных связей, которые часто наблюдаются в произведениях автора, лишь следствия этих страшных необратимых рассечений. С утратой тела Добсон незамедлительно терял свое главное-внутреннее-время, отмеченное нами под пунктом три, – время таким образом издыхало, костенело, превращалось в тяжелый темный камень, разрушавший карлика изнутри. Опять же в силу нарушения определенного равновесия времен время физическое и вместе с ним время внешнее ускоряли свой ход, в результате чего Фред стал быстро дряхлеть, приближаясь к полосе до пошлости бессмысленного существования. Но испытание продолжалось, никоим образом не выпуская бедного карлика из этого черного ящика. В дверь домика, в котором он коротал свои одинокие дни, вдруг позвонили: «Доктор, – подумал Фред равнодушно, и вспомнив, что Анна в церкви, сам пошел открывать. В дверь хлынуло солнце. На пороге стояла высокая дама, вся в черном. Фред отскочил, пробормотал что-то и, запахивая халат, кинулся в комнаты.» Не правда ли уже знакомое нам движение – из комнаты в комнату? – такое уже было в «Соглядатае»: убегая все дальше от неожиданной посетительницы, Фред, как и Соглядатай, уже стремительно сокращался в размерах, мечтал о том, чтобы стать меньше меньшего, меньше мышей, которых карлик так боялся. Вертикальное сокращение в размерах, очевидно, было обусловлено уже установленной нами ранее утратой тела. Это также один из способов самоустранения наряду с традиционным согласно Набокову – статичным растворением в воздухе с переходом в призрака или в одно бесцельное голое зрение. Даже когда обнаружилось, что неожиданная гостья – Нора и когда уже затевался непонятный разговор, карлик Фред все еще сокращался в размерах, пока вдруг не произошло следующее, оглушившее его наповал. «Она подошла к нему вплотную. Фред с виноватой усмешкой соскользнул со стула, стараясь увернуться. Тогда она очень тихо сказала: У меня ведь был сын от вас...» Стоп. Транзитная остановка, отнюдь не конечная: при утрате тела равновозможно движение как в ту, так и в другую сторону. Мир замер, балансируя на маленьком, но все еще материальном – размером с горошину – теле Фреда Добсона, огромная тяжесть, вдох: рука его, кажется, уже нащупывала выход из черного ящика.
ВЫЗОВ
Что совершает автор далее? Мастер деталей: чего стоил тот самый зонтик, с которого мы и начали наше размышление, чего стоят все его блистательные, искрящиеся даже под пасмурным набоковским небом детали, – всех не перечесть: он направляет взгляд карлика на «крошечное оконце, горевшее на синей чашке». Вероятно, это и есть тот самый выход из черного ящика, из чужого тела, выход из собственного дотоле герметично запаянного тела, – из всей его прошлой жизни, полной глухих, никогда, нигде, ни в ком не отзывавшихся стонов и мучений. Далее начинается новое – обратное – движение, уже в рост, неостановимое ничем – ни памятью о собственной ущербности, ни страхом: «А он какой, не...» «Он не должен знать, что я вот такой...» – движение мощное, безудержное, несомненно, вся последующая сцена – одна из лучших в творчестве Набокова. После ухода Норы, Фред словно очнулся и вдруг стал стремительно расти. «И тогда началось что-то сумасшедшее, несуразное. Он бросился в спальню, стал одеваться, неистово торопясь: надел все самое лучшее, крахмальную рубашку, полосатые штаны, пиджак, сшитый когда-то в Париже, и все улыбался, и ломал ногти в шелках тугих ящиков, и дважды должен был присесть, – так вздувалось и раскатывалось сердце – и снова попрыгивал по комнате, отыскивая котелок, которого так давно не носил и наконец, мимоходом посмотревшись в зеркало, – где мелькнул статный пожилой господин, строгий и изящно одетый, Фред сбежал по ступеням крыльца, уже полный новой ослепительной мысли: вместе с Норой поехать в Лондон, он успеет ее догнать и сегодня же вечером взглянуть на сына. На наших глазах произошло уникальное: Фред наконец вырос, стал статным господином, огромное счастье переполняло его, вся последующая сцена его стайерского пробега завораживает нас своим объемным движением: приближаясь к Норе, с каждым шагом, он становился все выше и выше, – наконец стал настолько высоким, что повылезавшие кто откуда мальчишки казались все ему сыновьям, – «веселыми, румяными, стройными», при этом горизонтальная направленность его движения становилась все менее важной для пространства рассказа, ибо движение вверх было уже практически неостановимо. Сцена пробега Добсона впервые на протяжении всего рассказа демонстрирует нам изменение и смещение трех времен героя. Первое время, время внешнее, исчезает, – бегущий стремглав карлик с улыбкой счастья на лице не замечает ничего вокруг себя и как бы «заражает» своим счастьем бегущих рядом людей, толпу, уже весь город, целый мир, впервые в своей, именно в своей жизни и жизни Добсона последовавший за этим маленьким большим человеком. Время третье: всегда тайное, скрытое, вдруг раскручивается стремительно, как тугая и наконец высвободившаяся пружина. И наконец время психо-физическое, время вздорное и каверзное, время предательское, именно оно останавливает свой ход в самый важный момент для жизни карлика Добсона. «Карлик добежал до нее, вцепился в складки юбки, с улыбкой счастья взглянул на нее снизу вверх, попытался сказать что-то и тотчас, удивленно подняв брови, сполз на панель». Мгновенная смерть Добсона спасительно охраняет его от горестной вести о смерти сына, о которой никак не могла сообщить ему в доме Нора. Так куда же, возникает вопрос, бежал счастливый Добсон? В мир, в котором смерть его сына окончательно подводит черту под странными законами человеческого существования? Да: Фред все-таки догнал мир, объект своей тоски, но какой? – мир его похороненного сына, мир Норы, Шока, – полупризраков, мир живых-неживых набоковских персонажей, телесных и осязаемых, но полых в отличии от обитателей загробного царства теней. В этом наземном царстве нет душ – одни тела, выпотрошенные чучела, и измученный Дух, никак не способный покончить с собой, – гидра, змея, кусающая себя за хвост. Очевидно, таково мироустройство по Набокову: в первой части нашего размышления мы побывали в царстве теней – после смерти героя, теперь же в наземном мире, как видится, симметрично отражающем нижний, мы находимся уже после рождения героя. В результате мы имеем сплошное подземное царство на обоих этажах земного существования, – тотальный морок, на фоне которого истинно живой Фред в своем счастливом вертикальном пробеге только и являет собой живой мир, – точнее, светлую полоску этого мира. О, в самом деле, есть детская улыбка в смерти, как сказал однажды Набоков и есть право на вызов, который может бросить этому темному загробному миру, именуемому живым, только истинно счастливый и – значит мужественный человек. Несомненно, карлик Добсон, погнавшийся за этим миром, в сущности, перепрыгнул его, и так и не увидев его истинного лица, все-таки вырвался из плена мертвого пространства и мертвого времени, ибо вызов этот – вопреки его инаковости, мучительной неравности, бесконечному унижению под тяжелым взглядом вечно чужого ему мира, вызов этот – страстным желанием, сердечным приступом, верой в чудо, стремительным пробегом, последним наконец прыжком удивленных бровей – вызов этот как единственно возможный поступок был им совершен.

713 раз
показано4
комментарий