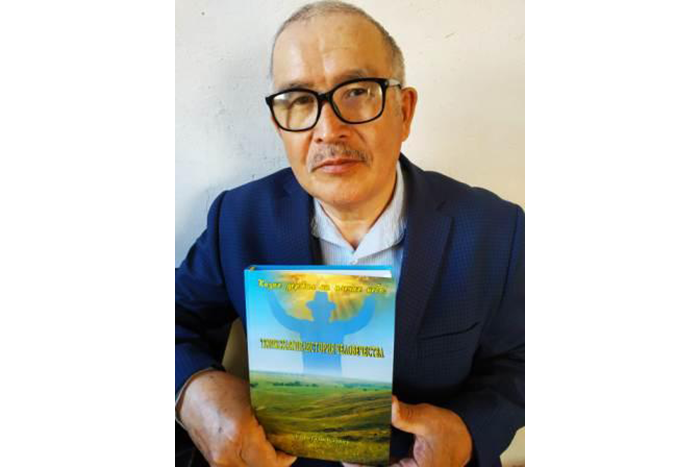- Время
- 29 Ноября, 2019
В Р Е М Е Н СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Желание «сфокусировать события, рассеянные во времени», приводит к «раскованности» жанра... это наблюдение особенно интересно, поскольку высказано писателем, в собственной практике активно и результативно умеющим отыскивать средства художественного осмысления истории. За ним, за этим наблюдением, стоит поиск современного художественного сознания. Стремление к «раскованности» важно понять как попытку вскрыть не всегда очевидные возможности самого жанра. Действительно, писатели отнюдь не ищут той «раскованности», которая вела бы к разрушению видовых, основополагающих признаков жанра, к смене одного – другим. Характерной особенностью новой казахской исторической литературы остается преданность ее создателей избранному жанру в сочетании с ярко выраженным стремлением полнее и глубже использовать его возможности, превратить его в мощное, дееспособное средство художественного познания. Мы не можем не считаться с этим фактом и должны его понять. Причину следует искать в самой природе новой казахской литературы исторической тематики. Очевидными свойствами ее являются общественная активность и гражданское самосознание ее творцов – качества, заложенные в исходном стремлении художников слова оснастить и укрепить современников знанием опыта прошедших столетий. Понятие «лирический герой», употребляемое обычно для обозначения индивиду-ального мирочувствования и миропредставления автора, в новой исторической литературе насыщается общественным, социальным содержанием. Художники слова преданы прежде всего этому «лирическому герою», по сути дела, главному действующему лицу культурного движения 60-х годов. «Лирический герой» новой исторической литературы – это растущее самосознание народа, его интеллектуальный потенциал, последовательно решающий задачи исторического бытия национальной культуры. Он объективирован не только в определенной культурной атмосфере, но и в деятельности – творчестве конкретных людей, в нашем случае – писателей, формируя в них качество подлинно и многосторонне развитых личностей. Это едва ли не важнейшее завоевание новой литературы исторического жанра, обретенное в процессе решения ею задач историко-культурной преемственности. Рождение нового типа художника вплотную приближает литературу к умению осуществить высшее предназначение духовной деятельности – созидать в человеке личность.
***
Для лирического героя О. Сулейменова периода «Глиняной книги» ответ на вопрос «Хан Ишпака, ты чей?» сводится к метафизической, по существу, попытке «соединить в одно и то же понятие два противоположных начала». Диалектическое понимание проблемы «свое – чужое» придет к нему позже, а в «Глиняной книге» проблема остается неразрешенной. Отсюда – парадоксальное, казалось бы, сочетание в ней сознательно, целенаправленно проясняемых автором деталей лингвистического, историко-познавательного плана и «темной воды» общего содержания, блистательное, высокопоэтичное изложение которого демонстрирует умение автора развивать сюжетную линию, но в данном случае не сквозную идею. Говоря об европейском возрождении, Ф. Энгельс отмечает, что блистательная эпоха «жизнерадостного свободомыслия» создавалась людьми нового типа и благоприятствовала формированию этих «титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености»13. Всматриваясь в судьбы этих людей, Энгельс обращает внимание на их деятельное участие в жизни общества: «...Что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются – кто словом и пером, кто мечом, а кто тем и другим. Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями; это люди второго и третьего ранга либо благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцев (как Эразм)»14. В период, предшествовавший взлету художественной и гуманитарно-научной мысли, аналогичная ситуация складывается в странах Латинской Америки. В это время, по словам А. Карпентьера, писатели «...начинают настойчиво тянуться друг к другу, испытывая потребность встретиться, услышать биение пульса всего континента. Подобно гуманистам эпохи высокого средневековья, которые знали друг друга, обменивались рукописями и трактатами, невзирая на границы феодов и дремучие леса, были прекрасно осведомлены о местонахождении какого-нибудь своего собрата ученого-латиниста, знатока Горация, живущего среди невежественного люда, наши писатели, будучи единомышленниками, едва осознав свою национальную принадлежность, то есть креольство и веления этого креольства, постарались установить обмен мнениями, завязать диалог»15. Отмечая, что все эти люди были вовлечены в политику, Карпентьер добавляет: «...Они знали друг друга и, хотя иногда и вели публичную полемику, ценили друг друга. А ценили потому, что все они были людьми, сделавшими свой выбор»16. Разумеется, аналогии нужно использовать с большой осторожностью. Но в данном случае мы и не собираемся проводить исторических параллелей между ситуациями. Речь идет только об одном: последовательная и солидарная деятельность культурных сил, ориентированная на прогрессивное решение задач общественного развития, в частности такой задачи, как осуществление исторической преемственности, закономерно приводит к концентрированному выражению потенциальных возможностей культуры.
Аз и Я
«Начался этап подъема. Мы вспоминаем себя нами. И от того, будем ли воздвигать собственные кочки и, калечась, сдирая кожу с ладоней, потянем тяжелую, колючую, как трос, линию подъема выше себя, зависит амплитуда твоего духовного взлета, степь». Этот принцип подъема, сформулированный О. Сулейменовым в обращении к современникам, в условиях казахской культуры нашел высокую степень реализации в его собственном творчестве, в книге «Аз и Я»17. О. Сулейменов предстает в ней в единстве своего интеллекта, редчайшей культуры художественного и научного мышления, высоконравственного мировоззрения. Обостренное чувство справедливости и мужественная, бескомпромиссная борьба против «попрания правды» в сфере историко-филологических наук определяет его этическую позицию. Уникальная по своим возможностям способность Сулейменова улавливать дыхание поэтического слова, его сердцебиение предопределила особую ценность этой книги. Жанр ее не поддается традиционному определению. Она логична и научно аргументирована. В то же время это, безусловно, художественное произведение и по воздействию на чувства читателя не уступает лучшим образцам «мыслящей поэзии», мастером которой О. Сулейменов признан давно и безоговорочно. Проблема соотношения поэтического и научного начала в мышлении поднимается в книге неоднократно, протест против их категоричного противопоставления друг другу является в ней главным творческим импульсом. «Почему-то повелось: поэзия – глуповата, наука – умновата. Забыли, что стихи глупца не станут притчей, – рассуждает О.Сулейменов в одном из монологов. – Забыли, что смыслы «ученый» и «поэт» разделились недавно. Они выражались одним словом, в Европе – артист, в Средней Азии – чаляби от позднетурецкого – чаляб – бог. Омар Хайям писал пространные математические трактаты, может быть, поэтому ему так удавались в конце жизни четырехстрочные рубаи – стихи сжатые и всеобщие, как формулы. Аль-Фараби, этот узел поэзии, философии и математики? Кто они были – поэты или ученые? Чаляби. Умеющие отгадывать символы, потому что создавали их. Люди чувственного ума. В средние века в Средней Азии за науку не платили: единственная привилегия, которой добились Омар Хайям и Аль-Фараби – «счастье познания». «Привилегии» «счастье познания» добился и О. Сулейменов, благодаря своим способностям, помноженным на интенсивнейшую работу ума. И все же он не просто чаляби – идеальный инструмент познания символов мира. Он – преобразователь действительности. Его книгу легко читать и нетрудно понять. И невозможно не признать за ней свойство реально созидающей силы. С библейского откровения «вначале было слово» О. Сулейменов снимает оттенок метафоричности. Читая его книгу, ощущаешь и подземный гул, и колебание почвы под ногами, ощущаешь тектонические сдвиги и процесс образования новых гор... Он возвращает действенную силу искрящемуся кристаллу человеческого слова, этой соли земли, озаренной поэтическим прозрением и открытиями разума. В «Аз и Я» Сулейменов представлен многолико, и простое перечисление его проявлений потребовало бы множества специальных гнезд: в одном – славист, тюрколог, шумеролог; в другом – историк, лингвист, литературовед; в третьем – этнограф, палеограф, знаток летописей; в четвертом – поэт, публицист, в особой графе – гражданин, общественный деятель и т. д. Объединенные в одной личности, эти грани формируют собеседника ушедших и грядущих времен, воскрешая образ универсального мозга исторических ситуаций Возрождения. Проницательно, с большой любовью к великому «Слову о полку Игореве» прочитаны в книге «темные» места гениальной поэмы, обнаружена и доказана причастность тюркского языка XII века к созданию шедевра русской литературы, подтверждающая его подлинную древность. Но в большей мере привлекают предпринятые в ней попытки восстановления первозданной поэтики «Слова». Очищенное от наслоений, «Слово» предстает монолитным произведением высокого драматического звучания. Общечеловеческое значение имеет ее центральная, как убедительно показывает О. Сулейменов, нравственная проблема: «свой – неправ». Это редчайший в мировой литературе средних веков случай преодоления этнических пристрастий, пойти на которое мог действительно гениальный художник. Но вот исконное тюркологическое русло О. Сулейменова выходит на безмятежные равнины отечественной тюркологии. Боевой пыл сменяется досадой, сарказм – горьковатой иронией, утверждение истин – просвещением. Еще вспыхивают гневные молнии в части «Шумер-наме», разя «сапожников» от тюркологии, «молящихся, как буддисты ноге Будды, тесной колодке индоевропейского сапога», но в целом интонация в корне изменилась. В ней ясно улавливается забота о создании новой тюркологии, подлинно научной, свободной от пожизненного школярства, от расовых и национальных предрассудков. Таблица сопоставления шумерско-тюркской лексики, предложенная в книге, представляет собой итог кропотливой, добросовестной работы. Она подтверждает предположение О. Сулейменова о сосуществовании прототюркских и шумерских племен в составе единого культурного региона во времена, которые в представлении большинства тюркологов ассоциируются с колодезной глубиной в безлунную ночь. «Шумер-наме» побуждает мысль к дальнейшим исследованиям, «раздражая», озадачивая ее множеством новых вопросов. Сулейменов демонстрирует плодотворность своего направления, вытягивая из глубины пяти с лишним тысяч лет золотую нить тенгрианства – первой в истории народов монотеистической религии, духовного стержня тюрко-монгольских кочевых племен, позволявшего им на долгом историческом пути смотреть сквозь встречавшиеся религиозно-мировоззренческие системы. Кстати, здесь-то и смыкаются сюжетные линии двух частей книги. Автор вспоминает сон великого князя Святослава Всеволодовича из «Слова о полку Игореве», в котором тот видит собственное погребение по тенгрианскому обряду. Неизбежное для настоящей книги композиционное решение состоялось! Встречное свечение ее частей озарило атмосферу произведения, обнаруживая его последовательность и логическую завершенность. Участие тюркского этноса в культурных контактах с народами евразийского материка оказалось прослеженным на временной дистанции в несколько тысячелетий. Проблемы, поднимаемые О. Сулейменовым в части «Шумер-наме», носят постановочный характер. Он сам это хорошо знает и оговаривается: «Работа по восстановлению биографии тюркских языков, по сути, находится в самом начале своего пути». Показательно внимание О. Сулейменова к начинающим лингвистам, которым он предлагает решить несколько задач в ключе новой тюркологии. Эти задачи, как и целый ряд вычлененных и сформулированных им вопросов, – горсть готовых к всходу зерен без плевел в руке опытного сеятеля. После прочтения «Аз и Я» становится очевидной возможность сопоставления «Слова о полку Игореве» и «Эпоса о Гильгамеше». Аккадский эпос ясно и недвусмысленно осуждает богов Урука в ситуации «свой – неправ». В двух литературных шедеврах, между которыми легли тысячелетия, с болью, с художественным прозрением трагических последствий осмыслена драма распада былого единства. Ряд положений книги подверглись критической оценке, в том числе – критической самооценке автора. Не вдаваясь в детали полемики и посттворческих рефлексий, хотелось бы заметить, что в анализе ее достоинств и недостатков абстрагироваться от проблем и возможностей современной казахской культуры можно не иначе, как лишаясь всякой перспективы понять природу этой книги. Безупречна ли она? Разумеется, нет. Лирический герой культурного движения 60-х годов достигает в ней значительных высот собственной эволюции. Нетрудно, однако, увидеть, что он подчиняет себе автора – художника и ученого, добавляя ученому ощутимую меру субъективной пристрастности, художнику – иллюзию полного согласия с логосом. И в этом – прямое следствие культурной атмосферы 60-х годов, когда своеобразный синкретизм мышления в освоении историко-культурного наследия, являясь исторически обусловленным, воспринимался как исторически необходимый, оправданный и в этом смысле – идеальный. Фактом своего появления книга «Аз и Я» с такой очевидностью обнажает противоречия, заключенные в существующей практике освоения истории и исторического наследия, что снятие их становится делом столь же актуальным, сколь и осуществимым. Нам уже не потребуется другого прецедента, чтобы ясно помнить, что познание истории и действительности в целом должно происходить в различных формах знания в соответствии со спецификой, видовым призванием этих форм, развитых в ходе взаимодействия и готовых к продуктивному партнерству на новом уровне перед лицом вновь возникающих проблем.
КНИГА КОРКУТА
Нить преемственности тянется в глубины веков, ведет в миры народов, достоверность культурных контактов с которыми выглядит не всегда очевидной. Исторические дисциплины, сохраняя верность собственным строгим критериям, набирают фактический материал, чтобы однажды, в неопределенном будущем, установив причинно-следственные связи, взвесив аргументы, прояснить реальную картину взаимоотношений. Между тем художественное сознание со всей присущей его природе непринужденностью совершает «рейды» по маршрутам, утвердить которые не взялась бы ни одна из обществоведческих наук. Культурологическому знанию в этом случае необходимо, видимо, перестроиться, беря на вооружение нечто от искусства, чтобы не уподобиться утке, мечущейся на берегу, от которого, влекомые простором, отплывают высиженные ею утята. В «Глиняной книге» О. Сулейменова есть описание поединка с быком, совершенно определенно указывающее на преемственное использование поэтом шедевров словесности прошлого, в данном случае – героического огузского эпоса «Книга моего деда Коркута» и древнеаккадского эпоса. «Эпос о Гильгамеше»:
От дыхания быка разверзлась яма, Сто мужей Урука в нее свалились; От второго дыхания разверзлась яма, Двести мужей Урука в нее свалились. «Книга Коркута»: Когда тот бык ударял рогами крепкий камень, камень рассыпался, как мука... ...три человека с правой стороны, три человека с левой стороны держали быка на железной цепи... «Глиняная книга»: Держали с двух сторон на бронзовой цепи Три скифа справа и четыре слева... Когда ты ударяешь рогом в камень, из камня серого, как из мешка, на землю сыплется мука, о бык.Совпадающие в основных компонентах, все три поединка завершаются победой над быком отсечением его головы. Энкиду и Гильгамеш, юный «сынок» Дерсе-хана – герой огузского эпоса и косог Кози Кормеш О. Сулейменова обретают право на особые почести. Победа над быком поднимает их на вершину славы. Кози Кормеша, персонажа «Глиняной книги», она приводит в объятия Шамхат, дарует ему «тяжелый шлем с рогами» – символ власти над ишкузами. В конкретике реалий придерживаясь близости к тексту «Книги Коркута», О. Сулейменов в изложении истории вождя Ишпаки ориентирован прежде всего на фабулу «Эпоса о Гильгамеше». Уверенность, с которой О. Сулейменов обращается с древними текстами, выдает в нем носителя особого самоощущения – осознающего свои права и полномочия наследника культурной традиции, берега которой определяются самим поэтом. Пример подобного вторжения в запредельные, с точки зрения бытующих этногеографических и других представлений, миры чрезвычайно притягателен. В нем есть обаяние свободы выбора, которая только и подготавливает единственно верный выбор – свободу в пространственно-временной ориентации. «Книга моего деда Коркута», изобилующая сценами военной и мирной жизни тюркских кочевых племен, дает основание сопоставить и сравнить ее содержание и поэтику с общетюркской и собственно казахской фольклорно-эпической традицией. «Лицо волка благословенно», – возвещает «Книга Коркута», и стоит за этим определением распространенный среди тюркоязычных народов культ волка, впоследствии эстетизированный и в качестве традиционного образа вошедший в современную литературу региона – от «Серого Лютого» М. О. Ауэзова до Акбары и Ташчайнара Ч. Айтматова («Плаха»). Или эпизод с Бейреком, когда он говорит: «Как мне не печалиться? Прошло уже шестнадцать лет, как я в плену у твоего отца; мой отец, моя мать, мои рабы, мои сестры тоскуют по мне. Еще была у меня черноокая невеста; был человек по имени Яртачук, сын Яланчи; он пошел, сказал ложь, объявил, что я умер; за него она выходит». Услышав такие слова, девица полюбила Бейрека; она говорит: «Если я спущу тебя на аркане с крепости, если ты вернешься невредимым к своему отцу, к своей матери, придешь ли ты сюда, возьмешь ли ты меня в жены?». В этом диалоге и во всей ситуации явная параллель с историей взаимоотношений Кобланды, Карамана и Карлыги из казахского героического эпоса «Кара Кыпшак Кобланды». «Казан велел привести своего каурого коня и сел на него. На своего саврасого жеребца, с пятном на лбу, сел Дундаз; своего сивого бедуинского коня велел поймать и сел на него брат Казан-бека Кара-Гюне; своего белого коня велел привести и сел на него Шер Шемс аддин». Получая эту развернутую информацию, мы, конечно же, вспоминаем и поэзию древних тюрок с ее культом коня (в лапидарном, высеченном в камне тексте создатели поэмы о Кюль-тегине называют поименно каждого из десятка его боевых коней), и казахскую поэзию, пронесшую сквозь века образ коня-соратника, лишаясь которого человек теряет в себе главное. Традицию подобной оценки коня венчает выдающаяся поэма И. Джансугурова о Кулагере, трагическая гибель которого ассоциируется в современном сознании с крахом конно-кочевой цивилизации. «Книга Коркута» содержит многое, с чем современные тюркоязычные литературы могут обращаться как с автохтонным историко-культурным наследием. Но есть в ней и нечто иное, выходящее за пределы собственно тюркской истории, зародившееся в атмосфере контактов и связей столь отдаленной поры, что лишь память художественного слова свидетельствует о бесспорности состоявшегося некогда взаимодействия. Когда Бейрек, вернувшись в «страну огузов», переодевается в «старый мешок из верблюжьего вьюка», является неузнанным на свадебный пир, состязаясь в стрельбе из лука, раскалывает перстень Яртачука, добивавшегося руки Бану-чечек, а затем учиняет расправу над теми, кто его предал, мы, несмотря на ряд отличительных деталей, узнаем действие, описанное Гомером в сцене возвращения Одиссея на Итаку. Особняком в поэме стоит рассказ о Бисате, ослепившем одноглазого Депе-Геза. В. М. Жирмунский в работе «Огузский героический эпос и «Книга Коркута» пишет, что в исследованиях русских и европейских ученых зарегистрировано более двухсот вариантов этого сюжета, сохраняющего устойчивость основных компонентов «в географическом районе, простирающемся от Исландии и Финляндии до Средиземного моря, Балканского полуострова, Кавказа и казахских степей»18. Древнейшим письменным отражением этого сюжета является рассказ об ослеплении Одиссеем одноглазого циклопа Полифема. Отмечая этот факт, В. М. Жирмунский считает необходимым уточнить: «Несмотря на древность и популярность «Одиссеи», нет никаких оснований рассматривать поэму Гомера как источник других вариантов. Напротив, в этом случае, как и во многих других, древнегреческая эпопея использовала сюжет гораздо более древней сказки»19. В добротном исследовании В. М. Жирмунского дана панорама бытования сюжета об ослеплении циклопа в фольклоре тюркоязычных народов. В части же исторической, в вопросе о возникновении, причинах его широчайшего распространения, исследователь ограничивается вышеприведенной отсылкой к туманным временам «гораздо более древней сказки».
(Продолжение следует)

581 раз
показано3
комментарий