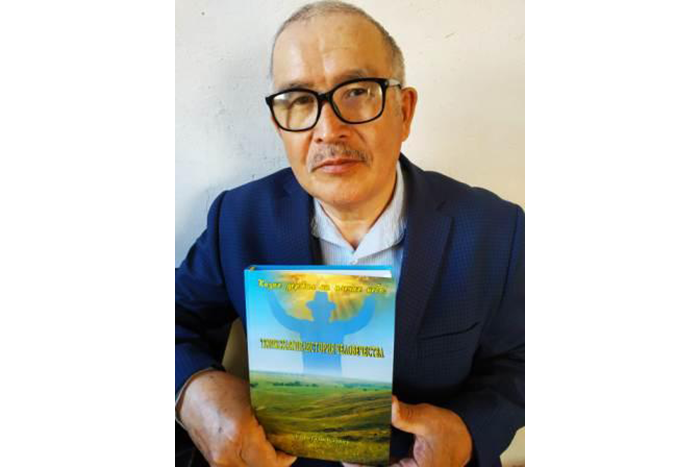- Время
- 30 Сентября, 2019
В Р Е М Е Н СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Мурат Ауэзов, культуролог
ОДУШЕВЛЯЮЩАЯ СВЯЗЬ
Более трех десятков лет развивается новая казахская литература исторического жанра, тридцать лет для современной литературы – целая эпоха. Успело устареть определение «новая», уместное в свое время для обозначения принципиально нового отношения к историческому прошлому. В самом жанре произошли столь существенные перемены, что они уже не поддаются однозначным определениям. Тенденции, получившие в нем оформление, оказали глубочайшее влияние на литературу и искусство, на общекультурный процесс в республике. Успехи, неудачи – полный внутреннего драматизма напряженнейший поиск сопутствовал эволюции жанра. И – хранили молчание критики, литературоведы, теоретики художественной культуры. Если быть точнее – критики постреливали дробью субъективно-эмпирических оценок и даже принимались корчевать отдельные стволы, не подозревая, что за ними – дружно взошедший лес. Молчали не критики, молчала наша критическая обобщающе-теоретическая мысль. Вспомним, что принес с собой жанр новой исторической литературы и какие возможности в связи с этим открывались перед теоретическим знанием. Начать хотя бы с того, что основоположниками его явились русскоязычные казахские писатели – А. Алимжанов и О. Сулейменов. Случайно ли именно они – личности на рубеже культур – выступили в этой роли, провозгласив тезис о необходимости более уважительного отношения к истории, к историко-культурному наследию народа? Попытка ответить на этот вопрос подвела бы теоретическую мысль к пониманию одной из сложных и оживленно обсуждаемых в мире проблем маргинальности. Личность на рубеже культур (маргинальная личность) – явление историческое. С тех пор, как существуют взаимосвязи, контакты народов, существует и маргинальная личность. Однако в различные исторические эпохи сущность ее проявляется по-разному, и по-разному проявляется она в различных конкретно-исторических ситуациях. Особый тип маргинальной личности представляет собой Иосиф Флавий, проницательно осмысленный Л. Фейхтвангером в «Иудейской войне». Маргинален Абунасыр Фараби, о чем свидетельствует его творческое наследие. В странах Латинской Америки маргинальность, как широко распространенное явление, стала предметом углубленного осмысления социологами, психологами и деятелями художественной культуры. Проблема маргинальности относится к числу проблем пограничного бытия национальной культуры и в этой связи является проблемой двух или большего числа культур, на рубеже которых находится та или иная творческая личность. Особое положение маргинальной личности способствует тому, что она воспринимает культуру, к которой принадлежит этнически, как бы со стороны, извне и в случае осознанной ориентации на участие в судьбах этой культуры располагает социально обусловленным, ценнейшим качеством мышления в масштабах целого, в масштабах всего этнокультурного субстрата. Благодаря этому качеству маргинальные личности неоднократно выполняли в истории роль деятельных осуществителей преемственности как в развитии одной, отдельно взятой культуры, так и в ее связях с другими культурами. Изучение маргинальности и билингвизма, как одной из конкретных форм ее проявления, в условиях Казахстана имеет как теоретический, так и практический интерес, если учесть нарастающую маргинальность в самой действительности. Осмысление этого феномена позволило бы лучше понять творческое наследие Фараби и других арабоязычных средневековых деятелей культуры – выходцев из тюркских окраин халифата, позволило бы обоснованно ответить на кажущийся частным вопрос: фактом какой культуры, казахской или русской, является творчество тех или иных русскоязычных писателей? Уже ранние исторические произведения А. Алимжанова и О. Сулейменова, тепло принятые читателем, оказали глубокое влияние на творчество их ровесников, старших и младших собратьев по перу. Провозглашенный ими тезис о необходимости рассматривать современность в масштабах большого исторического времени с привлечением познанного, осмысленного опыта народа отражал общественную потребность развития казахской культуры тех лет. Новая ценностная ориентация, сложившаяся в те годы, наглядно иллюстрирует воздействие одних форм сознания на другие, литературы и искусства на общекультурный процесс. На весь культурный процесс? Ответить, пожалуй, можно было бы и утвердительно, если не помнить о затяжном безмолвии культурологической мысли... Аксиоматичное положение исторического материализма гласит о том, что плодотворное взаимодействие форм общественного сознания возможно лишь в том случае, если каждая из взаимодействующих форм достаточно развита. Отставание теории культурного процесса от самого процесса перестает быть в этой связи ее внутренним делом, потому что объективным следствием этого ее состояния является негативное воздействие на развитие культуры. В плане общих выводов можно отметить зависимость поступательной преемственности от уровня развитости форм сознания данного общества и от качества их взаимодействия. Обращение литературы к истории по первоначальному посылу имело просветительский характер, но привело к гораздо более глубоким следствиям, чем простое ознакомление с далеким прошлым казахского народа. Принципиальное значение имело то обстоятельство, что были преодолены рубежи, в которых замыкалась современная казахская художественная мысль. Перейдя черту, она оказалась в чаще новых фактов. Это был чрезвычайно важный по своим результатам момент в биографии жанра: литература проходила школу самостоятельного осмысления собою открытых жизненных реалий. На это обстоятельство необходимо обратить особое внимание, потому что преемственность в данном случае ясно предстает как действие, обращенное не только в прошлое, но и в будущее. Испытание встречей с прошлым было не из легких. Многим из нас довелось быть очевидцами ситуации, когда титулованная зрелой, развитой, казахская литература, особенно проза, в освоении исторической тематики оказалась вынужденной обратиться к помощи методов, мало совместимых с ее высоким, узаконенным литературоведами статусом – к переложению неизвестных массовому читателю источников, к популярному просветительству с откровенно романтическим привкусом. Тем не менее это движение в литературе, поначалу уязвимое, дававшее повод для едких критических выпадов, было глубоко прогрессивным по своей сути и плодотворным по своим результатам, так как по существу своему оно ориентировано на «повышение уровня организации целого» (Э. А. Баллер), на включение в высшее (новое) низшего (старого), или, как сказал бы латиноамериканский исследователь, на «обретение собственной аутентичности путем ассимиляции и усвоения опыта прошлого». Это движение совокупностью своих решенных и нерешенных проблем помогло нам понять, что литература и искусство могут быть философичными, общественно активными и, по своему прямому предназначению, художественными только в том случае, если будут избавлены от необходимости подменять собой историю и другие формы сознания, что, в свою очередь, достижимо, если в духовной жизни народа утвердится развитая общественная, философская и гуманитарно-научная мысль. Разумеется, каждый писатель находил в истории близкую для себя тему и раскрывал ее так, как считал нужным это сделать. Но при всем тематическом многообразии литературы исторического жанра можно назвать два мира, с которыми так или иначе были связаны все описываемые события. Это мир средневековых городов и мир кочевья. Для того чтобы осмыслить мир кочевья, авторам произведений на историческую тему нужно было преодолеть в себе психологический барьер, существование которого связано с предубежденным отношением к кочевникам. Потребовались не только обширные знания, но и гражданское мужество и бойцовские качества, чтобы показать общечеловеческие ценности, содержащиеся в историко-культурном наследии кочевых народов. Литература воспитала в себе эти качества, однако погружение ее в «колодец времен» происходило эмпирически, в зависимости от наличия или доступности конкретных исторических сведений. Здесь-то и должна была сказать свое слово культурология – дать логическое обоснование художественной концепции истории, которая, конечно же, не тождественна традиционным дисциплинам исторической науки. В соответствии с целями своего развития культура имеет право на избирательный подход к событиям прошлого. В тех случаях, когда она решает задачи преемственности, особое значение для нее в истории приобретает то, что обозначает основные параметры и придает устойчивость образующейся целостности. Какая эпоха, какие события могут стать точкой отсчета в нашем движении к духовному самоутверждению? Что формировало духовную культуру народа, придавало ей ту определенность, которую мы берем на вооружение в качестве исторического наследия? Что из опыта прошлого представляет первостепенный интерес с точки зрения возникающих перед нами проблем? Это естественные и закономерные вопросы, необходимо возникающие в случае, если мы по-настоящему заняты действительностью и не ищем благовидной возможности «увильнуть» от серьезного с ней диалога... Вторгшийся в современное гуманитарное сознание мир кочевой архаики является одним из основных факторов, придающих современной казахской культуре черты своеобразия и неповторимости. В нем заключен конкретный исторический опыт народа, его традиционное мировидение, этика и эстетика, его искусство. И на всем этом лежит печать постоянного движения, перемещений и рожденного ими своеобразного отношения к пространству и времени. И движение, и статика в единстве своем присущи человеку, нации, человечеству. Но в процессе исторического развития лишь главные вехи отмечены повсеместным брожением, в то время как существовали и существуют народы, для которых в движении, как для других в оседлости, – естественность бытия. В этой связи можно говорить о двух типах движения: всеобщем и локальном. Первый из них сопровождает эпохальные перемены в мировой истории, и по отношению к нему приемлем принцип не разделения, а единства «человек: кочевник – оседлый». Что же касается локального движения, то здесь перед нами целый материк своеобразного мироощущения, во многом отличный от картины мира в культуре оседлых народов. Кочевье – как состояние движения – одно из универсальных состояний общечеловеческой истории, и не только прошлой. Проблема «человек и пространство» остается актуальной и для современных поколений. Идея пути, одухотворившая художественное творчество кочевников, не может оказаться архаичной в век, когда так остро и многогранно стоит проблема выбора и перемен, новых бросков в пространство. Современное гуманитарное знание не перегружает себя эстетическим, философским изучением кочевья ни в типологическом (опыт кочевых народов), ни во всеобщем плане. В отдельных исследованиях слышны отголоски страстей далеко не научного свойства. К примеру, автор книги с многозначительным названием «Историческое единство человечества и взаимное влияние культур» С. Н. Артановский, категорично заявляя, что «уничтожение было стихией кочевников»1, отводит кочевым племенам единственную роль – переносчиков элементов культуры, созданной оседлыми народами. Его в целом интересному и серьезному исследованию присущ строго выдержанный академический стиль изложения, за исключением пассажей, посвященных истории и культуре кочевых племен. В них автор эмоционально приподнят, ликующе сообщает о том, что «залпы орудий, которыми Иван Грозный рассеял наследников Золотой Орды, возвестили о конце эпохи «степной экспансии»2. Он сгущает краски, утрирует, не замечает пародийных интонаций в собственном экзальтированном монологе, когда рассказывает о набегах кочевников на земли горожан и селян: «Там, где прошли войска степных властителей, остались повсюду деревья, срубленные под корень, оросительные каналы, намеренно запруженные или превращенные в болота, колодцы, засыпанные, где это было возможно, или надолго отравленные. Кругом пылали нарочно подожженные амбары. Завоеватели старались убить землю и задушить источники влаги...»3. Экспрессивный монолог С. И. Артановского не свободен от пафоса этноцентризма – крайне нежелательного, когда речь идет о контактах культур. Рассматривая достижения и традиции своей культуры как эталон, этноцентрист верит в превосходство своих и презирает или отвергает ценности других народов. Латиноамериканские культурологи, имеющие дело с различными формами этого явления, предупреждают: «Этноцентризм искажает историю, подгоняя ее под мерки историка. Но еще опаснее то, что такого рода история претендует на истинность и универсальность»4. В середине первого тысячелетия до новой эры конные кочевники выходят на мировую арену, и с тех пор ни одно крупное событие древней и средневековой истории Евразии не проходило без их деятельного прямого или косвенного участия. Скифы, гунны, древние тюрки, монголы, орды «железного хромца» Тимура – недобрую память они оставили о себе в летописях различных времен. Но не является ли более надежным, благородным и объективным хранителем памяти художественное слово? Его свидетельства протестуют против повторения истории, которую библейские старцы, возможно, для того чтобы отодвинуть от себя подальше тяжесть первопроклятия, отнесли ко временам первых людей, когда один из них, Каин, убил брата своего Авеля, «пастыря овец».
ОБРЫВКИ ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩЕЙ НИТИ
Эпос о Гильгамеше
Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях?..
Эти слова взяты из монолога Утнапишти, аккадского Ноя, на долю которого выпало выжить во времена потопа. Изъятые из контекста слова не потускнели. В них ясно слышен страстный призыв отбросить старые «печати», возродить единство братьев, искоренить ненависть в сердцах. Подобно самому Утнапишти, принятому в «собрание» богов, когда яростные воды карающего потопа стирали прежний контекст жизни на земле, извлеченные, освобожденные слова обретают новое звучание, величественное и актуальное. В родной стихии, в эпосе о Гильгамеше, точнее – в монологе Утнапишти, роль их скромнее, и звучат они элегично. Монолог начинается с обобщения «Ярая смерть не щадит человека» и завершается рассуждениями о том, что не люди, а боги определяют судьбу и что смерть всему кладет предел – и злу, и добру, и их противоборству. Все не «навеки», ибо ничто не вечно – подтверждению этой мысли прислуживают избранные для эпиграфа слова, оставаясь в плену монолога Утнапишти. Перед нами – книга. Самая старая из всех существующих – «Эпос о Гильгамеше» («О все видавшем»5). Различные версии этой древней поэмы дошли до современности из глубины тысячелетий. В основе ее текста – «ниневийская» версия (VII –VI вв. до н. э.), одна из последних. Обратим внимание на то обстоятельство, что в старых текстах, таких, например, поэмах, как «Гильгамеш и Гора живых», «Гильгамеш и небесный бык», «Гильгамеш и ива», герой Энкиду, «в степи рожденный», выступает в роли раба Гильгамеша – царя «огражденного Урука», тогда как «ниневийская» версия именует его другом и братом Всевидавшего. Столетия и народы вчитывались в глиняные таблицы древнейшей поэмы и находили в них то, что искали. Эпос щедр, потому что высокохудожествен. Оттого и глубины его безмерны. Самые смелые предположения, претендующие на объяснение «главного» в нем, теряются здесь, как одинокий путник в вечерней степи. Мудрый, как жизненный опыт, эпос логичен. Но в жилах старого мастера разлит огонь творчества. Он неистощим в нахождении художественных средств, взрывающих трезвую, логичную последовательность сюжета. Гильгамеша, восставшего против воли богов, эпос проводит по кругу испытаний и возвращает в Урук смирившимся. Но не капитуляции героя («Да отступлю я») посвящает он самые поэтичные, вдохновенные строки, а горестному плачу его об умершем друге:
Как отец и мать в его дальних кочевьях, Я об Энкиду буду плакать. Внимайте же вы, мужи, внимайте, Внимайте, старейшины огражденного Урука! Я об Энкиду, моем друге, плачу, Словно плакальщица, горько рыдаю: Мощный топор мой, сильный оплот мой, Верный кинжал мой, надежный щит мой, Праздничный плащ мой, пышный убор мой, – Демон злой у меня его отнял!
Боги Урука, боги Гильгамеша осудили Энкиду. Гильгамеш это знает, это знает эпос, и тем не менее – «Демон злой у меня его отнял!» Взметнувшийся вопль скорби разрушает и логику, и форму скупого на развернутые метафоры эпоса, возносится к небесам последующих времен, оставляя богов и «философские» вопросы Гильгамеша о жизни и смерти на стеллажах аккадской старины. Все зависит от того, что именно «высвобождаем» мы из содержания эпоса. Переводчик и один из крупнейших исследователей поэмы о Гильгамеше И. М. Дьяконов считает, что в центре ее стоит «проблема тщетности человеческой жизни и неизбежной несправедливости человеческих страданий и смерти, которая уравнивает всех»6. Нетрудно заметить, что на исследователя большое впечатление произвел монолог Утнапишти, сентенции которого действительно дают основание прийти к выводу, будто главным в эпосе является драматическое восприятие мира. Но не отмечено ли в эпосе с гораздо большей силой художественности иное – мощный и скорбный плач по случаю распада состоявшегося было братства двух стихий – кочевья и оседлости, персонифицированных в образах главных героев – Энкиду и Гильгамеша? И разве не эта трагическая коллизия является основной в «ниневийской» версии эпоса? Трагическая коллизия, как известно, предполагает борьбу за утверждение высоких идеалов и поэтому может лечь в основу подлинного произведения искусства, изначальная сущность которого – жизнеутверждение. Драматическое восприятие мира сковано противоположной идеей – мыслью о бренности жизни и тщетности усилий человека. Оно также может стать предметом искусства, но самим же искусством должно быть преодолено. В противном случае мы будем иметь перед собой дидактику, назидания, философию скептицизма – все, что угодно, но не искусство. Эпос прекрасно справляется с пессимизмом Утнапишти. В этом нетрудно убедиться, стоит только внимательно прислушаться к дыханию слов, довериться не эпосу-мудрецу, а эпосу-художнику. Энкиду... Образ его представляется наиболее интересным. Вероятно, потому, что Энкиду «в степи рожден» и его «взрастили горы». Человека, знакомого с тюркской литературной традицией, сочетание «степь и горы» не может оставить равнодушным. В фольклоре, в поэзии тюркских кочевых племен степь – образ земного, реального бытия, а горы давно уже стали символом величия, мудрости, высоты духа. Разумеется, в эпосе о Гильгамеше, созданном, во всяком случае, не кочевниками, образы гор и степи могут иметь совсем другое значение, скажем, пустынных мест, в которых обитают звери и дикие люди, каким поначалу эпос воспринимает Энкиду. Впрочем, аккадскому мироощущению не чуждо уважительное отношение к горе. Так, накануне схватки с чудовищем Хумбабой Гильгамеш, желая узнать, что ждет их с Энкиду, устремляет взор свой в мир горний: «Гора, принеси виденье ночью!» И подобно Коркуту тюркских преданий, обежавшему все стороны света в поисках бессмертия и отступившему, услышав, как «даже мощные горы поведали ему об ожидающем их разрушении»7, Гильгамеш тоже отступает в страхе, когда гора в его видениях вдруг повалилась и рассыпалась «в пепел». Прозвучало когда-то: «рожден в степи»... И одно лаконичное упоминание побуждает внимательно отнестись к судьбе того, о ком это было сказано. Верный своей общей оценке эпоса о Гильгамеше как поэмы с драматическим восприятием мира И. М. Дьяконов отводит образу Энкиду исключительно функциональную роль, благодаря которой, по его мнению, индивидуальная судьба Гильгамеша обретает масштабность судьбы человеческого рода. «Энкидиада – вовсе не лишнее звено в поэме, – пишет И. М. Дьяконов и продолжает: – Образ Энкиду, друга и побратима героя поэмы, нужен автору с двух точек зрения: 1. Судьба Энкиду – судьба всего человечества. Подобно всему человечеству, он сотворен из глины, он пережил (обязательные для человечества, с точки зрения людей древнего Востока) периоды развития: невинную жизнь со зверьми, грехопадение, пастушескую жизнь, «городскую цивилизацию». Энкиду не только человек, он – типичный человек. 2. Судьба Энкиду – типичная судьба индивидуального человека. Подобно всякому человеку, Энкиду знал любовь женщины и дружбу с товарищем, совершал дела, подобающие мужу, и был побежден неизбежной смертью. Именно вследствие такой трактовки образа Энкиду восклицание Гильгамеша: «Не умру ли и я, как Энкиду?.. Разве когда-нибудь мертвый увидит сияние солнца?» – воспринимается не как выражение индивидуального переживания героя, а приобретает трагическое общечеловеческое значение, которое и делает поэму выдающимся произведением мысли»8. В восклицании Гильгамеша нет величия, о котором говорит И. М. Дьяконов. Трагедия, действительно имеющая «общечеловеческое значение», состоялась раньше. Кульминацию ее венчают смерть Энкиду и плач Гильгамеша. В прощальной песне Всевидавшего, в самом звучании слов этого мощного реквиема заключена вера, составляющая первейшее условие трагического произведения искусства, в непреходящую ценность того, что уходит. Нет этой веры в цитированных И. М. Дьяконовым словах Гильгамеша. В них – безысходность. По существу своему – это рефлексии надломленного сознания, отраженный гул прошедшей грозы. «Энкидиада» – не только «не лишнее звено в поэме», история Энкиду формирует эстетический мир эпоса. Для того, чтобы убедиться в этом, обратимся к самому тексту. Энкиду рожден в степи. В друзьях у него – животные, с которыми он вместе ходит на водопой. Подобно уранидам, божествам стихий природы, он силен, наивен и добр. Когда друзья его попадают в ловушку охотника, он их освобождает. И резвится на лоне природы, наслаждаясь свободой, о которой вспомнит перед смертью с тоской и проклянет все то, что стало между ним и днями степной воли. Весть о нем, о его невероятной силе и странном образе жизни принес Гильгамешу тот самый охотник, силки и ловушки которого опустошал Энкиду. Так приходили испокон веков к царям городов и государств купцы, владельцы караванов с жалобой на степных грабителей; так рождались легенды о кентаврах. Перед Гильгамешем встает проблема, что делать с этой разгулявшейся под боком силой. Эпос осторожно и мудро, через сны и напутствие матери, советует ему: стань другом и братом Энкиду. Встреча героев опосредована женщиной. Урук, город Гильгамеша, высылает к Энкиду блудницу Шамхат. Соблазн женщиной приводит к соблазну ее миром: хлебом, печеным в золе, кувшинами крепкой сикеры. Вместе с блудницей бредет Энкиду к пригородным пастухам, а затем и в самый город. Он потерял способность «бегать, как прежде», но посмотрите, как встряхивается он по дороге в Урук, мобилизует рассыпанные ласками Шамхат гордость и достоинство, чтобы войти в ограду вольным и сильным сыном своей стихии:
Закричу средь Урука: я – могучий, Я один лишь меняю судьбы, Кто в степи рожден, – велики его силы! Традиция подобной самооценки хорошо знакома по поэзии кочевых тюрков. Личность в ней соотносит себя непосредственно со Вселенной. В земном пространстве кочевник ощущает себя независимым и беспредельно могущественным. «Я тучи, луну затмившие, разгоню, я солнце тусклое очищу», – говорил о себе казахский поэт XV века Казтуган. Нет, не диким человеком был Энкиду. Эпос распознал это раньше других. Но вот уже и старейшины города признают за ним не только физическую силу, большую, чем у Гильгамеша, но и особую мудрость, неведомую жителям «огражденного Урука». Сведения о Хумбабе, живущем в горах, они повторяют со слов Энкиду, который оказался более информированным. И, благословляя после долгих колебаний Гильгамеша на неслыханной дерзости подвиг – убийство Хумбабы, старейшины советуют: пусть идет впереди Энкиду, «ходивший путями, стезями бродивший». Только ли практическую сноровку человека – сына природы – имели в виду старейшины? Кочевник строит свои отношения с пространством иначе, чем оседлый. Естественное состояние непрерывного движения, перемещений вырабатывает в нем знание законов пути, включающих в себя не только практические навыки использования условий экологической среды, но и целую систему этических норм, эстетических принципов, философских умозаключений. В арсенале понятий кочевника о связях с окружающим миром одно из главенствующих мест занимает понятие «дорога». Казахи, например, желают удачи репликой «Жолын болсын!» – «Пусть состоится твоя дорога!», проклинают: «Жол урсын!» – «Пусть ударит дорога!» Если бы боги вознамерились вдруг сообщить кочевнику, как они сообщили однажды шуриппакийцу Утнапишти о грядущем потопе или крушении гор, то, наверное, не стали бы шептать: «Стенка, стенка, запомни!», а сказали бы: «Запомни, дорога!». Старейшины успокоились, когда в их присутствии Энкиду вдохновил Гильгамеша словами: «Дороги не бойся, на меня положись... Безопасен тот, кто идет со мной!» Трижды на пути к жилищу Хумбабы Гильгамеш видит страшные сны. Особенно ужасным был третий сон («Гора, что валилась, превратилась в пепел»), после которого заколебался Гильгамеш и предложил другу: «Спустимся в степь, совет устроим». Энкиду в этой ситуации ведет себя как истинный кочевник. Каждый сон друга он толкует положительно, как сулящий победу, а не беду. В тюркском фольклоре широко распространен (с небольшими вариациями) сюжет о сне и толкователе снов. По одному из вариантов беременная женщина видит во сне двух напавших на нее волков. Встревоженная, она направляется в соседний аул к знаменитому толкователю снов. Тот оказался в отъезде, и женщина рассказывает сон его невестке. Посочувствовала невестка, повздыхала – как привиделось, так и сбудется. Перепуганная женщина отправляется в свой аул. В это время возвращается домой толкователь снов, и невестка рассказывает ему все, как было. Разгневался старик, посадил невестку на коня и со словами: «Надо было сказать, что родится у нее два сильных и славных сына!» – велел быстрее догнать женщину. В ближайшей лощине за аулом конь, летевший во весь опор, захрапел и остановился. Невестка увидела: на дороге лежит растерзанное тело женщины, а над ним стоят два волка. Сон, по представлению кочевых тюрков, только сигнал возможного несчастья или возможной радости. Вещего, в европейском смысле слова, сна для кочевника не существует. Все зависит от первой реакции того, кто слушает, от его активной воли. Энкиду положительно толкует сны Гильгамеша, и герои в трудной схватке побеждают Хумбабу. Совсем иначе поведет себя Гильгамеш в сходной ситуации, когда ему доведется впоследствии толковать сон друга. Услышав о том, что Энкиду увидел во сне совет суровых богов Урука, решивших Энкиду умертвить, Гильгамеш залился слезами. «Сон этот вещий, хоть много в нем страха! – ужасается и скорбит он. – Страха в нем много, но сон этот вещий!» Боги Урука даже в лучшем расположении духа относятся к Энкиду как к пришельцу, видят в нем чужого. Энкиду, со своей стороны, считается с ними лишь постольку, поскольку это боги его друга, не больше. Перед смертью Энкиду, мучительно вспоминающего, в чем же его вина, осеняет догадка, и на последнем дыхании он выкрикивает: «Друг мой, меня проклял бог великий!» Этим «великим» богом не мог быть никто из урукских богов. Шамаш – потому что сам участвовал во всех начинаниях героев, и это ему разгневанный Эллиль бросил упрек: «То-то ежедневно в их товарищах ходишь!» Ану вменяет в вину герою совсем не то, в чем раскаивается умирающий Энкиду. Эллиль не мог им быть, потому что изначально был решительно настроен против Энкиду, следовательно, не мог в нем разочароваться и осудить проклятием. Эллиль, жестокий Эллиль, в необузданном гневе наславший на землю потоп, во время которого «человеки, как рыбий народ, наполняли море», отчего даже боги пришли в ужас и возроптали: «Как же, как не размыслив, потоп ты устроил?» – Эллиль, бог земли и воздуха, царь богов и покровитель земных царей, произносит слова, мимо которых почему-то скользит внимание исследователей, хотя тяжесть именно этих слов согнула не только Гильгамеша, но и эпос:
Издревле, Гильгамеш, назначено людям – Земледелец пашет землю, урожай собирает, Скотовод и охотник со зверьем обитает, Надевает их шкуру, ест их мясо, Ты же хочешь, Гильгамеш, чего не бывало, С тех пор, как мой ветер гонит воды.
Хранитель устоев Урука Эллиль ощущает присутствие в своих владениях «скотовода» Энкиду как противоестественное, неудобное и при первой возможности убеждает богов умертвить его. Гильгамеш после смерти друга бежит в пустыню, а эпос... И эпос отправляется вслед за ним. Но какой был праздник неодолимой мощи побратимов-героев, когда они, начистив до блеска оружие, облачившись в чистое, возвращались с гор, насадив на копье голову Хумбабы! Богиня Иштар, главная женщина земли и небес Урука, восхитилась Гильгамешем, предложила разделить с ней ложе, согласилась принять в дар зрелость его тела. Иштар – менее всего сладострастная женщина, хотя в пересудах Вавилонии именуется супругой бесконечного числа мужей. Она – богиня плодородия, само рождающее лоно земли. Вдыхать семя – ее естественное свойство. Она – праматерь и гимн земледелия и поэтому самый чуткий, настороженный и заботливый страж его статуса. Энкиду мешает ей, как мешает Эллилю. Гильгамеш породнился с миром, ей чуждым, с миром дальних дорог, голубого, без дождя, неба, естественной, лишь подстригаемой зубами животных флоры. Иштар возникает на пути героев и предлагает себя Гильгамешу. Но Гильгамеш – не Энкиду. Это Энкиду, увидев обнаженной ипостась Иштар – блудницу Шамхат, «забыл, где родился!». Гильгамеш знает, что жрицы Иштар и сама богиня, отдаваясь, убивают в мужчине главное из его достоинств. Он знал это, отправляя вместе со всем Уруком на встречу с Энкиду Шамхат, знал, что лишит блудница «мужа-истребителя из глуби степи» его связи с «великим» богом, о котором в предсмертных конвульсиях вспомнит Энкиду. Задохнувшейся от гнева богине Гильгамеш хладнокровно перечисляет ее прегрешения, неизменно подчеркивая, что в своих антиподов превращала она всех, кого ласкала: птичке-пастушку крылья сломала, льву свободному вырыла ловушки, гордому коню судила «узду и плеть», пастуха-козопаса превратила в волка, и теперь «гоняют его свои же подпаски», Ишуллану-садовника, растившего деревья, корни которых уходили в глубь земли, а ветви к небу, превратила в паука, поселив среди паутины – «к потолку не подняться, не спуститься на пол». Гильгамешу, увенчавшему себя тиарой в знак победы над Хумбабой, есть чем дорожить в этом мире: у него есть Энкиду, есть что нести в себе высоко, так, чтобы не дотянулись руки обольстительной Иштар. Друзья отправляются в Урук, а Иштар – к Ану с требованием: «Отец, быка создай мне, пусть убьет Гильгамеша, за обиду Гильгамеш поплатиться должен!» Свирепого быка, в семь глотков осушившего Евфрат, встретили герои у стен Урука, отважно вступили с ним в бой и победили. Энкиду хорошо понимает, в чем смысл проделок Иштар, у него свои счеты с богиней. В то время как Гильгамеш, упоенный новой победой, возится с рогами быка, чтобы наполнить их елеем и преподнести богам, Энкиду, показывая на убитого быка, грозит Иштар, взобравшейся на зубцы городской стены: «А с тобой – лишь достать бы, как с ним бы я сделал, кишки его на тебя намотал бы!» Он вырывает «корень быка», бросает в лицо богине. Энкиду совершает ужасное святотатство: бык – пахарь и сеятель семени, «корень» его священен. Женщины Двуречья устраивали фаллические шествия, отдавая должное кумиру плодородящей земли. «Созвала Иштар жриц, блудниц и девок, корень быка оплакивать стали». В этой, шестой, таблице глиняной книги достигает кульминации героическая линия эпической поэмы, и вместе с тем обнажаются противоречия, воспринятые эпосом как неразрешимые. Апофеозом неодолимой силы единства и братства двух стихий звучит победная песня друзей:
Кто же красив среди героев? Кто же горд среди мужей? Гильгамеш красив среди героев, Энкиду горд среди мужей! Мы быка небесного гнали во гневе, Не достигла богиня исполнения желаний, Только наше с тобою исполнилось желанье!
Но боги остаются богами, и древний эпос не в силах им противостоять. В ночь пира по случаю победы над небесным быком Энкиду видит «вещий», по определению Гильгамеша, сон. Заботливые боги Урука поступают с любящим Гильгамешем так, как поступала со своими избранниками Иштар: убивают в нем главное, убивают в Гильгамеше Энкиду. Приговор выносит Эллиль: «Пусть умрет Энкиду, но Гильгамеш умереть не должен!» Боги высказались определенно: за то, что сразили быка и Хумбабу, герои должны поплатиться, ответчиком назначен Энкиду. Казалось бы, все ясно. Но двенадцать дней, пока смерть не перехватила дыхание, мучительно раздумывает Энкиду, в чем его вина. Вспоминает вдруг: дверь... Как в первые дни прихода в Урук, когда он почтительно назвал мудрую Нинсун, мать Гильгамеша, «буйволицей ограды», так и в предсмертные часы ассоциации с иным, отличным от его собственного миром вызывают в Энкиду несвойственные быту его прародины кирпичная стена и деревянная дверь. В свое время, изумившись чуду – двустворчатой двери, принес он из кедровых лесов своими руками изготовленную дверь, украсил ее и надписал на ней свое имя. Сотворил себе символ согласия с новой средой и теперь раскаивается. Эпос удивленно сообщает:
Энкиду поднял с одра свои очи, С дверью беседует, как с человеком: «Деревянная дверь, без толка и смысла, Никакого в ней разуменья нету! ...Знал бы я, дверь, что такова будет плата, Что благо такое ты принесешь мне, Взял бы топор я, порубил бы в щепы...»
Потом Энкиду вроде бы забывает о двери, начинает проклинать охотника и особенно изощренно – блудницу Шамхат:
Огонь пожара твой дом постигнет, Перекрестки дорог тебе будут жилищем, Тень от стены обителью будет, Отдыха знать твои ноги не будут, Будет бить по щекам голодный и пьяный, Позовет тебя за собой нищий, Все, что дал тебе, он возьмет обратно.
По вине охотника и Шамхат расстался Энкиду со степью, оказался в Уруке с его чужими богами. Проклинает Энкиду дни, когда попался на глаза охотнику, когда встретил у водопоя блудницу. И только имя Гильгамеша, друга, соратника, прозвучавшее с небес в сердитом окрике Шамаша, заставляет его встрепенуться и простить Шамхат. Но и дверь, и Шамхат, и боги Урука для него – явления одного порядка: чужое, не свое, холодный и враждебный мир. Угасающее сознание рвется к теплу, к воспоминаниям о прежней доурукской жизни, но всюду натыкается на предметы, тела и души мира Гильгамеша, сидящего тут у одра и льющего горькие слезы. Мечется, мечется в предсмертном бреду Энкиду, тело его «пожирает недуг». Внезапно находит на него озарение:
Друг мой, меня проклял бог великий: Когда в Уруке мы с тобой говорили, Я боялся сраженья, идти не хотел я, Друг мой, кто в сраженье падет – тот славен, Я же смерти страшился, умираю с позором.
«Великим богом», презревшим и проклявшим Энкиду за трусость, не мог быть (мы об этом уже говорили) ни один из урукских богов. К тому же не в традициях богов Урука было требовать от человека героизма. Героизм был земной потребностью растущего города, а Гильгамеш – первым из его жителей, решившимся создать себе «вечное имя». Восхитившие жителей Урука подвиги – победа над Хумбабой и убийство быка – были расц

708 раз
показано0
комментарий